Орстхойцы
Орстхойцы, орстхоевцы, самоназв. как вольного общества[К. 1]: Арште, Арштхой, Орстхой, Эрштхой, экзоэтн.: балойцы[К. 2], балсурцы, карабулаки[К. 3] — нахское вольное общество, частично сформировавшееся в народность[1]; составило/составляет один из компонентов в этногенезе современного ингушского и чеченского народов. Родина — верхнее течение рек Асса и Фортанга — историческая область Орстхой-Мохк (совр. бо́льшая часть Сунженского района Ингушетии, Серноводский район Чеченской Республики и приграничная часть Ачхой-Мартановского района Чечни, РФ[К. 4]). В традиции чеченской этноиерархии считается одним из девяти исторических чеченских тукхумов, в ингушской традиции — одним из семи исторических ингушских шахаров.
| Орстхойцы, арштхойцы | |
|---|---|
| Орстхой, арштхой | |
.jpg.webp) Представители орстхойцев в «Дикой дивизии» (фото из архива семьи Гардановых, с. Сагопши). | |
| Другие названия | Орстхоевцы, орстхои, арштинцы, арштойцы, эрштхойцы |
| Экзоэтнонимы | Балойцы, балсунцы, карабулаки |
| Тип | Историч. народность, совр. этногруппа |
| Этноиерархия | |
| Раса | Европеоидная |
| Тип расы | Кавкасионский |
| Группа народов | Нахские народы (вайнахи) |
| Подгруппа | Ингуши и чеченцы |
| Общие данные | |
| Язык |
Орстхойский диалект (аккинско-орстхойское наречие), ингушский, русский и чеченский языки) |
| Письменность | Ингушская, русская и чеченская |
| Религия | Язычество (истор.), ислам суннитского толка |
| Первые упоминания | Сведения Н. А. Потапова от 1768 г. |
| В составе | чеченцы |
| Предки | Балойцы? |
| Родственны | Аккинцы-ауховцы |
| Современное расселение | |
|
Передняя Азия: нет данных Средняя Азия: нет данных |
|
| Историческое расселение | |
|
— Берега реки Арштынка и Футан (рубеж XVII и XVIII вв.) — Орстхой-Мохк (с XVIII в.) — Расселение по равнинным районам Ингушетии, Чечни и Дагестана (кон. XVIII — нач. XIX вв.) |
|
| Государственность | |
| Военно-политич. союз Орстхой (XVIII — нач. XIX вв.) | |
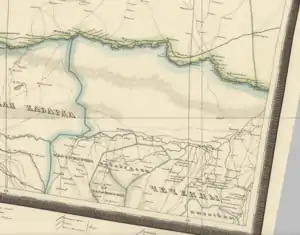 |
|
К XVIII веку орстхойцы расселились из Орстхой-Мохк севернее — в долину реки Сунжа (запад Чеченской равнины)[К. 5], и сформировали военно-политический союз, бывший одним из самых крупных вайнахских вольных обществ. В результате Кавказской войны больша́я часть орстхойцев была истреблена, около 4000 семей выселилось в Османскую империю, откуда многие вернулись в Россию в 70-х годах XIX века. Не эмигрировавшие и вернувшиеся орстхойцы, наряду с другими вайнахами, в XX веке пережили интеграцию в социалистическое общество СССР и депортацию в Среднюю Азию (бо́льшая часть позднее вернулась). На рубеже XX и XXI веков значительное влияние на жизнь орстхойцев, как и всего населения северокавказского региона, оказал военный конфликт пытавшейся самоопределиться Ичкерии.
В наши дни орстхойцы представляют собой этногруппу в среде ингушей и чеченцев, постепенно ассимилируемую этими двумя народами. Проживают, в основном, в ряде населённых пунктах Ингушетии и Чечни. Имеются небольшие группы орстхойцев в ряде стран Ближнего Востока — Иордании, Сирии, Турции и других. Язык — орстхойский/карабулакский диалект аккинско-орстхойского наречия, относящегося к вайнахскому кластеру нахской ветви нахско-дагестанских языков. В настоящее время мало используется. Основная религия среди верующих — ислам суннитского толка.
В официальных переписях населения СССР и современной России орстхойцы не фиксировались, однако, в связи с растущим уровнем национального самосознания и интересом к собственной истории в среде северокавказских народов, некоторые представители вайнахского населения и сегодня продолжают идентифицировать себя как орстхойцы.
Название
Нахоязычное самоназвание этногруппы на русском — «орстхой» и «арштхой», в современных ингушских и чеченских словарях во множественном числе — орстхой[2][3], в единственном числе — орстхо[2][3]. Часто для обозначения наименования этнонима используется собственное имя, как общества — «Орстхой» (варианты — «Арстхой/Арштха/Арштхой», «Орстха/Орштхой», «Эрстхой/Эрштхой»), в этом случае название как родовое имя указывается с заглавной буквы. Некоторые исследователи именем общества называют историческую область расселения этногруппы — топоним Орстхой-Мохк, таким образом создавая некоторую запутанность в терминологии, перемежая понятия «этноним—топоним». В русскоязычной традиции написания этнонимов самоназвание этногруппы употребляется как «орстхойцы» (варианты — «орстхоевцы» и «орстхои»), а также «арштинцы», «арштойцы», «арштхойцы» и «эрштхойцы». Русское и нахское название общества Орстхой, как и многих других нахских имён собственных, разные авторы могут указывать по-разному, в связи с исторически сложившимися разными словоформами наименований, а также с тем, что долгое время не были выработаны единые правила русско-ингушско-чеченской транскрипции. В XX веке, с появлением ингушской и чеченской письменностей, стала оформляться транслитерация нахских названий, но разнообразие в их огласовке и орфографии встречается вплоть до начала XXI века [К. 6] (см. § Варианты орфографии этнонима).
В конце XVIII века И. А. Гюльденштедт зафиксировал топоним, связанный с орстхойцами — «округ Арште», по его сообщению это название бытовало в ингушском и орстхойском языках, а в чеченском как «Ариштогай» и «Ариш Тояй»[4]. Комментатор к И. А. Гюльденштедту, российский кавказовед, д.и.н. Ю. Ю. Карпов считал, что ближе к оригиналу были бы варианты «Арсхте» и «Арисх тояи»[5]. Несмотря на то, что наименование употреблялось И. А. Гюльденштедтом только как топоним, современные исследователи допускали связку топоним—этноним, часто указывая «арште» как этноним (в совр. варианте со строчной буквы)[6]. В первой половине XX века И. Н. Генко указывал ингушское наименование орстхойцев как «арштхой» (ærštxuoj) и «арштинцы»[7], также существует мнение, что «арштхой»/«орстхой» — это чеченские названия орстхойцев[6].
Этимология
- Ономастика.
Чеченский исследователь-краевед А. С. Сулейманов в своей работе «Топонимия Чечено-Ингушетии» возводит происхождение названия орсойцев то к сарматским аорсам[8][К. 7].
Что легло в основу самоназвания «орстхойцы» точно не выяснено, но существует ряд предположений его этимологии различной степени авторитетности. Вероятно, как и в большинстве случаев для сравнительно небольших этногрупп, этноним мог образоваться от названия места первоначального проживания его носителей[9]. По мнению Я. З. Ахмадова, самоназвание орстхойцев в виде словоформы «арштойцы», связано с названием реки Арштынка (варианты — Аршта, Аршты)[10], на берегах которой на рубеже XVII—XVIII веков складывалось общество (см. § Происхождение). Этимология самого гидронима тоже не выяснена, чеченский лингвист, к.ф.н. Я. С. Вагапов считал его нахским, подчёркивая сложный нахский топоформант -шт/-шта[11]. По мнению Я. З. Ахмадова наименование реки восходит к древнеиранскому слову арашан — «вкусная/чистая вода»[К. 8]. Однако, в иранском слова «вкусная», «вода» и «чистая» имеют другие значения, не связанные с этой словоформой[12], а слово арашан встречается в тюркских языках, например уйгурском, и означает «целебный/тёплый источник/ключ»[К. 9]. Также река со своими 6-ю притоками имела ещё два тюркских названия — Балсу («Медовая вода») и Карабулак («Чёрный источник»), от которых тоже произошли именования орстхойцев[13] (есть версия, что это другая река — Фортанга, см. § Экзоэтнонимы).
Альтернативные варианты этимологии
Углубляясь в ономастику этнонима «орстхойцы» некоторые исследователи предлагали достаточно смелые гипотезы происхождения этого наименования (например, В. И. Абаев, И. В. Бызов, Я. С. Вагапов, У. Б. Далгат, А. О. Мальсагов, И. Е. Саратов и А. С. Сулейманов). В основном данные теории не являются доказанными и на сегодняшний день не признаны официальной наукой, также в них может прослеживаться трактовка этимологии этнонима в пользу националистических интересов того или иного современного народа под влиянием сложившейся политической конъюнктуры[К. 10] (см. § Альтернативные гипотезы происхождения).
- Согласно Я. С. Вагапову, наименование Орстхой нахского происхождения, корень слова opc (варианты арс, урс, эрс) означает «лесистая гора», менее употребительно «лес»[14]. Почти также объяснял данную морфему другой чеченский учёный А. Д. Вагапов — в виде âрц (чеч.), оарц (ингуш.) и арс (диалект.) он переводил её как «лесистая гора», «предгорье»[15][К. 11]. Дореволюционный публицист К. М. Туманов возводил арс/арц к доисторическому периоду и обнаруживал в армянских и грузинских топонимах[К. 12]. Помимо корня, в этнониме Орстхой Я. С. Вагапов выделял суффиксы — -т- (топонимический), -х- (лица), -о- (именной), а также окончание множественного числа -й. Исследователь связывал данный этноним, например, с орсойцами, возводя эти наименования близко к значению «лесогорные», «лесные»[16].
- В 60-х годах XX века А. О. Мальсагов высказал предположение, что значение этнонима орстхойцы — это «жители равнин». У. Б. Далгат в монографии «Героический эпос чеченцев и ингушей» цитирует А. О. Мальсагова[17]: «По всей вероятности, „орстхой-арштхой-аьрашхой“ происходит от „аре“ (равнина, плоскость), „ш“ — показатель множественности, „тӏа“ — послелог, „хо“ — словообразовательный суффикс. Таким образом, „орстхо-арштхо-аьрашхо“ (житель равнины) в противоположность „лоамаро“ (горец).» Чеченский исследователь И. В. Бызов выделяет в этнониме арштхой/орстхой морфемы аре-йист-хой и переводит его так же, как А. О. Мальсагов — «жители равнин»[18]. Этимология этих исследователей связана с неподтверждённой гипотезой, согласно которой орстхойцы сформировались не в горных областях, а на предгорной равнине — в долинах рек Ассы и Сунжи.
- С отсылкой к неким дозорным функциям орстхойцев, предлагал свою гипотезу А. С. Сулейманов. В его этимологии этноним «Эрштхой»[К. 13] сложился из трёх компонентов — Iаьршачу, хитIepа и хой, которые он переводит как «Чёрной (с) речки дозора (стража)». По мнению исследователя эволюция изменения этого этнонима могла протекать приблизительно таким образом: Iаьржачу хи тIepа хой → Iаьрш хитIepа хой → Iаьрштхой → Эрштхой[19].
- На уровне догадок высказывалось предположение о славянском, и даже русском, происхождении этнонима орстхой[К. 14]. А. С. Сулейманов, а также повторяющий его сведения И. Е. Саратов, утверждали, что наименование орстхой, якобы созвучно с городом Ростов[К. 15], сопоставлялись этнонимы Орстхой и Арсалой с антропонимами Арыслан, Еруслан, Оруслан и Руслан — А. С. Сулейманов видел в названиях орстхойцев и арсалойцев связь с русским мужским именем Лев[К. 16]. Подобные славяно-орстхойские параллели прослеживаются у А. Д. Вагапова, связывавшего чеченскую морфему âрц, через соответствие в индоевропейских языках с праславянским orst-, а от него, в свою очередь, с русскими словоформами рост или роща[15]. Я. С. Вагапов, тоже видел связь нахского корня арс-/opc-/урс-/эрс- со славянским рус, однако, он считал его не заимствованным от славян, а наоборот. Чеченское оьрсий и ингушское эрсий — наименование «русских» в вайнахских языках, обычно рассматривается как заимствование из тюркских языков, в которых словоформа рус, в связи с избеганием тюрками (как и нахами) начального р, преобразовалась в орус/урус. Однако, Я. С. Вагапов предположил, что название русских в вайнахских языках может быть не заимствованным, а собственным, отталкиваясь в своей гипотезе от существования этнонима арса[К. 17].
Экзоэтнонимы
Исторические свидетельства об орстхойцах, как в российских документах и литературе, так и в европейских исследованиях, упоминают эту народность под каким-либо экзоэтнонимом, наиболее известный из которых «карабулаки»[К. 18] (варианты с заглавной буквы: в дореформенной орфографии — «Карабулаки», как общества — «Карабулак»[20][21]). Существует утверждение, что в какой-то период орстхойцев равномерно называли и «арштойцами», и «бальсунцами», и «карабулаками»[К. 19]. Некоторые известные варианты наименований орстхойцев, которые давали им соседние народы:
- Общество Балой, балойцы — наименование орстхойцев восходящее к старинному обществу Балой, которое, вероятно, могло в какой-то период объединять предков орстхойцев — аккинцев, галайцев, мержойцев, нашхойцев, цечойцев и ялхаройцев[13], либо являлось предшественником-предком этих обществ. Также возможно, что «Балой» — это старинное общее название для всех этих обществ, например, А. С. Сулейманов сообщает, что орстхойцев и аккинцев раньше называли «Балой»[22]. Подтверждает некую связь балойцев с орстхойцами Н. Г. Волкова, зафиксировавшая во 2-й половине XX века применение среди части нохчмахкахойцев этнонима «Балой» к орстхойцам[23].
- Общество Балсу/Бальсу, балсунцы/бальсунцы/бальсурцы — наименование восходящее к одному из тюркских названий реки Арштынка — «Бальсу»[10]. Гидроним произошёл от тюркского bal[К. 20] — «мёд»[24] и suɤ — «вода»[25], то есть означает — «медовая вода»[10]. Согласно сообщению естествоиспытателя и путешественника XVIII века И. А. Гюльденштедта, это наименование орстхойцев бытовало у черкесов[26]. По мнению некоторых исследователей «Балсу» это другая река — Фортанга[27][28]. А. С. Сулейманов утверждал, что название реки является нахским и когда-то существовало в словоформе Балсур-хи — «Балойских войск река», связывая гидроним с обществом Балой[К. 21].
- Общество Карабулак, карабулаки — наименование восходящее к ещё одному тюркскому названию реки Арштынка — «Карабулак»[10]. Гидроним произошёл от тюркского qara — «чёрный»[К. 22] и bulaq — «источник»[К. 23], вероятно, в русском языке название появилось путём калькирования из кумыкского[19] (къара — «чёрный»[29] и булакъ — «источник/ключ/родник»[30])[К. 24]. Возможно, что тюркское название произошло от чёрного цвета всех «речек, ключей и прочих источников широко орошённого района», то есть в бассейне Арштынки и её шести притоков[10]. Существовали утверждения, что «карабулаками» называли равнинных аккинцев[К. 25], однако, закрепившееся в XVIII—XIX веках за равнинными аккинцами наименование другое — «ауховцы». Не следует путать нахских карабулаков с огузским родом, который иногда указывают под таким же названием — «Карабулак». Более верное именование огузской группы ближе к огласовке «Караболук» (на древнетюркском Qara bölük[К. 26]), вторые части этих этнонимов в оригинале — bulaq и bölük — имеют разные значения[31].
Варианты орфографии этнонима
| Русскоязычная орфография |
Чечено-ингушская орфография |
Форма употребления названия |
Упоминание названия в исследованиях | ||
| Эндоэтнонимы: | |||||
| Арстах | — — |
общ-во этнич. общ-во |
Сулейманов А. С. Саратов И. Е. |
1978 1985 |
[32] [33] |
| Арстхой | Аьрстхой | общ-во | Сулейманов А. С. | 1978 | [34] |
| арште | — | ингуш. и орстх. название орстхойцев | Ахмадов Ш. Б. | 2002 | [6] |
| арштинцы | — | — | Генко А. Н. | 1930 | [7] |
| арштойцы | — | аульное многофамильное общ-во | Ахмадов Я. З. | 2009 | [13] |
| Арштха | — | равнинно-предгорное общество | Ахмадов Я. З. | 2009 | [21] |
| арштхой | — — — |
чеч. название орстхойцев вайнах. этнич. образование этническое определение, общество |
Ахмадов Ш. Б. Бызов И. В. Ахмадов Я. З. |
2002 2005 2009 |
[6] [35] [36] |
| Арштхой | — — |
общ-во аульное многофамильное общ-во |
Сулейманов А. С. Ахмадов Я. З. |
1978 2009 |
[34] [37] |
| арштхойцы | — — |
вайнах. этнич. образование нахская народность |
Бызов И. В. Ахмадов Я. З. |
2005 2009 |
[38] [39] |
| орстахой | — | вайнах. этноним | Вагапов Я. С. | 1990 | [40] |
| Орстха | — | равнинно-предгорное общество | Ахмадов Я. З. | 2009 | [21] |
| орстхоевцы | — — орстхой |
этнос ингуш. шахар ингуш. этнич. единица |
Коригов Х. и др. Кодзоев Н. Д. Бекова А. И. и др. |
1990 2002 2009 |
[41] [20] [3] |
| орстхои | — | чеченское сообщество | Автандилян Р. А. | 2001 | [42] |
| орстхой | — — — — орстхой — орстхой — |
вайнах. род или фамилия вайнах. название общ-во чеч. название орстхойцев вайнах. этнич. единица вайнах. этнич. образование ингуш. этнич. единица этническое определение, общество |
Сулейманов А. С. Вагапов Я. С. Карпов Ю. Ю. Ахмадов Ш. Б. Куркиев А. С. Бызов И. В. Бекова А. И. и др. Ахмадов Я. З. |
1978 1990 2002 2002 2005 2005 2009 2009 |
[43] [44] [5] [6] [45] [35] [3] [36] |
| Орстхой | — — — |
общ-во этнич. общ-во аульное многофамильное общ-во |
Сулейманов А. С. Саратов И. Е. Ахмадов Я. З. |
1978 1985 2009 |
[46] [33] [37] |
| орстхойцы | — — |
— нахская народность |
Шнирельман В. А. Ахмадов Я. З. |
2006 2009 |
[47] [39] |
| Орстхойцы | общ-во | Сулейманов А. С. | 1978 | [48] | |
| эрштхоевцы[К. 27] | — | этнос | Коригов Х. и др. | 1990 | [41] |
| Эрштхой | общ-во | Сулейманов А. С. | 1978 | [49] | |
| Эрштхойцы | общ-во | Сулейманов А. С. | 1978 | [50] | |
| Экзоэтнонимы (исторические): | |||||
| балой | — — |
нохчмахкахойский этноним древний этноним |
Волкова Н. Г. Сулейманов А. С. |
1973 1978 |
[51] [52] |
| бальсунцы | — | аульное многофамильное общ-во | Ахмадов Я. З. | 2009 | [13] |
| карабулаки | — — — — — |
кавказский народ — — вайнах. этнич. единица общ-во |
Гюльденштедт И. А. Генко А. Н. Вагапов Я. С. Ахмадов Ш. Б. Куркиев А. С. |
1787, 1791 1930 1990 2002 2005 |
[53] [7] [54] [6] [45] |
| Карабулаки | — | общ-во | Сулейманов А. С. | 1978 | [19] |
| Карабулакцы | — | ||||
Общие сведения
Как и многие народы на определённом этапе своего развития, нахи использовали сложную систему названий для существовавших в их среде форм объединений, структура которых состояла из групп разной численности и статуса, включая доьзалы, ца, некъи, гары, вары и тайпы. В середине XX века ряд исследователей разработали некую классификацию, согласно которой бо́льшая часть тайпов образовывала своеобразные союзы — тукхумы (у чеченцев сначала их было выделено 8, потом 9[К. 28]) и шахары (у ингушей выделено 6—7[К. 29]). Сегодня считается, что тукхумы и шахары — это дефиниции для обозначения племени или региона в Чечне и Ингушетии[60]. В связи с неоднозначным пониманием названий нахских объединений, ещё с XIX века в российском кавказоведении применительно к ним использовался термин общество (см. Нахские народы § Этно-социальная иерархия).
Этническая принадлежность
Историческая родина орстхойцев занимает пограничное географическое положением между различными нахскими этногруппами, с запада от них сформировавшими ингушский народ, а с востока — чеченский. В связи с этим, среди вайнахов, в последние несколько десятилетий отличающихся высоким уровнем национального самосознания, периодически возникают споры — некоторые исследователи видят в орстхойцах восточных ингушей[К. 30], а другие — западных чеченцев[К. 31]. Согласно ряду исследователей, общество Орстхой играло важную роль в истории ингушей — оно занимало место среди семи шахаров, сформировавших ингушский народ[К. 29]. Однако, сегодня у чеченцев существует понятие тукхума Орстхой, который настолько важен в их этнической общности, что считается одним из девяти тукхумов образующих чеченскую нацию (например, среди девяти звёзд, символизирующих чеченские тукхумы на гербе ЧРИ и флаге ОКЧН, одна — это Орстхой)[К. 28]. Официальная власть решала этот вопрос в пользу ингушей — в Российской империи орстхойцев, под именем «карабулаков», относили к ингушам наряду с галашевцами и назрановцами[К. 32], в советское время орстхойцев фиксировали как ингушей в паспортах[К. 33]. В научной среде во 2-й половине XX — начале XXI веков этническая принадлежность орстхойцев определяется как отдельной нахской этногруппы[К. 34], такое же мнение иногда отражает и современная пресса[62].
В исторической ретроспективе ингуши и западные чеченцы видели в орстхойцах отдельную родственную группу, а восточные чеченцы считали их потомками какого-то особого народа (иногда легендарных нарт-орстхойцев), населявшего эти земли до прихода чеченцев[К. 35]. На сегодняшний день обсуждение вопроса о национальной принадлежности орстхойцев не актуально и имеет явную политическую окраску, так как они участвовали и участвуют в этногенезе как ингушского, так и чеченского народов — одни из орстхойцев говорят по-ингушски и называют себя ингушами, другие говорят по-чеченски и связывают себя с чеченцами[63]. Не смотря на это, вплоть до начала XXI века, многие орстхойцы самоидентифицируют себя в составе этих двух народов до сих пор подчёркивая собственную этническую идентичность[59] (так называемое, многоуровневое национальное самосознание). Многие из них не относят себя ни к ингушам, ни к чеченцам[6], известно обращение через газету инициативной группы орстхойцев[К. 36], возмущённых некоторыми чеченскими исследователями, причислявшими орстхойцев к чеченцам. Согласно авторам обращения, данные утверждения «у десятков тысяч орстхойцев … вызывали улыбку или недоумение, но всерьёз мы это не воспринимали …»[41]. Многие орстхойцы считают свою общность отдельными нахскими тайпами, со своим историческим прошлым и своим особым путём исторического развития[19].
Состав
Состав орстхойского общества, его деление на тайпы, некъи и гары, на сегодняшний день этнографами тщательно не исследован и однозначная классификация этих объединений является предметом дискуссий. Верны утверждения, указывавшие общества Галай, Мержой, Цечой и Ялхарой, как предков орстхойцев[13], однако, также верно называть эти общества и в составе орстхойцев, так как позднее на них распространилось наименование Орстхой. Сегодня принадлежность к орстхойцам горных нахов определяется следующим образом: 1) выходцы из общества Акка указывались как предки орстхойцев, но не входили в их состав и считались просто родственной этногруппой[64][34]; 2) общество Галай иногда относили то орстхойцам, то считали его отдельной этногруппой[52]; 3) представители обществ Мержой считались орстхойцами[65], но часто не указывалось, что они также участвовали и в этногенезе другой нахской этногруппы — аккинцев-ауховцев; А. С. Сулейманов про мержойцев приводил информацию, что сами себя они относят к орстхойцам, но орстхойцы не считают их своими[66]; 4) представители обществ Цечой считались орстхойцами, но часто не указывалось, что они также участвовали в этногенезе другой нахской этногруппы — аккинцев-ауховцев; А. С. Сулейманов особенно выделял цечойцев, указывая их родовой аул Цеча-Ахки как родину орстхойцев[67]; 5) общество Ялхарой иногда относили то к орстхойцам, то считали его отдельной этногруппой[68]; 6) иногда отмечали в составе орстхойцев ещё и нашхойцев[13].
Согласно чеченскому исследователю и писателю М. А. Мамакаеву[69]. Тайпы Галай, Гандалой, Гарчой, Мержой, Мужахой, Цечой, Ялхорой — по каким-то причинам М. А. Мамакаев причислил к «основными коренными чеченскими тайпами»[70]. А. С. Сулейманов отдельно выделял общество Мужганхой[50], в след за ним это общество стали повторять в своих списках орстхойских обществ другие исследователи[71][72], однако, вероятно, Мужганхой — это только другой вариант наименования общества Мужахой[73].
| Общества и родовые ветви (тайпы, гары, некъе) |
Происхождение (родовой аул) |
Фамилии и этногенез (ца, дозалы) | |||||
| 1. | Белхарой | 1978[К. 37]1991[71] | Белхара | Белхароевы[74] | → ингуши | ||
| 1.1. Булгуч-некъе | 1978[К. 38]1991[71] | Эги-Чож | Булгучевы[75] | ||||
| 1.1.1. | Эги-Чож[К. 39] | Дзангиевы, Зангиевы → цоройцы | |||||
| 1.1.2. | Эги-Чож[К. 40] | Хашиевы → цоройцы | |||||
| 1.1.3. | Хай | Мейриевы[77] | |||||
| 1.1.4. | Куртой-Юрт | Куртоевы[77] | |||||
| 1.2. Кориг-некъе | Даттых | Кориговы | |||||
| 1.2.1. | Берд-Юрт | Мамиевы | |||||
| 1.2.1.1. | Баталовы[К. 41] | ||||||
| 1.3. Ферг-некъе | 1978[К. 42]1991[71] | Фаргив, Берешки, Аршты | Фаргиевы | ||||
| 1.3.1. | Арсамаковы[К. 43] | ||||||
| 2. | Галай | 1973[69]1978[К. 44]1991[71] | Акха-Басса | Галаевы, Базаевы | → ингуши → чеченцы | ||
| 3. | Гандалой | 1973[69]1978[К. 45]1991[71] | Гандал-Боссе | Гандалоевы[К. 46] | → ингуши → чеченцы | ||
| 3.1 | Акбиевы[К. 47] | → ингуши | |||||
| 4. | Мержой | 1973[69]1978[К. 48]1991[71] | Мержа | Мержоевы | → аккинцы-ауховцы[К. 49] | → чеченцы → ингуши | |
| 4.1. | Аксаговы | → ингуши | |||||
| 4.2. | Гушлакиевы | ||||||
| 4.3. | Дербичевы | ||||||
| 4.4. | Кузьговы | ||||||
| 4.5. | Мусаевы, Мусиевы, Мусоевы | ||||||
| 4.6. | Хантыговы | ||||||
| 4.7. | Юсуповы | ||||||
| 5. | ГIулой | 1978[К. 50]1991[71] | Гул | ||||
| 6. | Мужахой | 1973[69]1978[К. 51]1991[71] | Мужахоевы (Мужухоевы) |
→ ингуши | |||
| 5.1. | Актомировы[К. 52] | ||||||
| 5.2. | Алихановы, Эльдихановы | ||||||
| 5.2.1. | Гемиевы | ||||||
| 5.2.2. | Мосиевы | ||||||
| 5.2.3. | Ольгиевы | ||||||
| 5.2. Виелха-некъе | 1978[К. 53]1991[71] | Велхиевы | |||||
| 5.3. | Китиевы | ||||||
| 5.4. | Мургустовы | ||||||
| 7. | Орг-некъе | 1978[К. 54]1991[71] | → ингуши → чеченцы | ||||
| 8. | Хевхарой | 1978[К. 55]1991[71] | Хевха | Хайхароевы | → ингуши → чеченцы | ||
| 9. | Цечой | 1973[69]1974[80]1978[К. 56] 1991[71]2005[81] |
Цеча-Ахки | Цечоевы[74] | → аккинцы-ауховцы[К. 57] | → чеченцы → ингуши | |
| 8.1. | Апиевы, Опиевы | → ингуши | |||||
| 8.2. | Бариевы, Бориевы | → ингуши | |||||
| 8.3. Бока-некъе[К. 58] | 1978[К. 59]1991[71] | Цеча-Ахки | Боковы[74][76] | → ингуши | |||
| 8.4. | Цеча-Ахки | Гардановы[74] | → ингуши | ||||
| 8.5. Гарчой | 1973[69] | → ингуши → чеченцы | |||||
| 8.5.1. Анастой | с.Анастой
(ныне с.Ансалта Ботлихского р-на РД) |
Анастоевы | → ингуши → чеченцы | ||||
| 8.6. | Мазиевы | → ингуши | |||||
| 8.7. | Мусиевы | → ингуши | |||||
| 10. | Ялхарой | 1978[К. 60]1991[71] | Ялхороевы | → ингуши → чеченцы | |||
| 11. | Жей(Жевой) | 1978[К. 61]1991[71] | Джейнчу(Жейн-Чу) | Аурбиевы, Борушевы, Дудуркаевы, Ирбайхановы, Пайзулаевы, | → чеченцы | ||
Расселение и численность
Вероятно, с периода позднего средневековья орстхойцы проживали в области верхнего и среднего течения рек Асса и Фортанга. Эта страна орстхойцев — Орстхой-Мохк (бо́льшая часть Сунженского района Ингушетии и приграничная часть Ачхой-Мартановского района Чечни) — входила в исторический регион Лам-Акки, где орстхойцы соседствовали с горными аккинцами и ялхоройцами (иногда этот тайп включают в состав орстхойцев). По А. С. Сулейманову, соседями орстхойцев были: в горах на юге и западе — ингушские шахары, на востоке — тайпы Ялхорой и Галай, однако замечание автора про Галай не ясно, так как далее по тексту исследователь указывает (как и многие другие источники), что Галай входил в состав орстхоевского общества[К. 62][83][50].
В конце XVIII — начале XIX веков в Орстхой-Мохк насчитывалось около 40 поселений, а её духовным и политическим центром был древний аул Цеча-Ахки, который орстхойцы считают своей прародиной. В этот же период часть их расселилась из горных ущелий в долину реки Сунжа — на территории, соответствующие равнинным и предгорным районам современной Чечни и Ингушетии, и далее — в Дагестан, где часть орстхойцев участвовала в этногенезе аккинцев-ауховцев. Согласно заявлениям самих орстхойцев, приблизительные границы их исторического проживания — верхнее и нижнее течении Фортанги, после расселения с гор на равнину — среднее течение Сунжи: на востоке — до селения Гехи, и на западе — до селения Яндаре[41]. Старинные селения основанные или заселённые орстхойцами: Алхасты[41], Бамут[41], Гажир-Юрт (совр. Нестеровская)[41], Курей-Юрт (позднее Орджоникидзевская, совр. Сунжа)[41], Орстхой-Фортан (совр. Ачхой-Мартан)[41], Плиево[41], Сурхахи[41], Цокало Бокова (позднее Новый Ах-Барзой, Верхний Сагопш, совр. Сагопши)[41], Цеча-Олкум (позднее Верхний Алкун, совр. Алкун)[50][41], Экажево[41], Элдархан-Гала (совр. Карабулак)[41] и Яндаре[41].
В XX веке расселение и численность орстхойцев не фиксировалась официальными переписями населения СССР и современной России. В 1990 году инициативная группа орстхойцев написала статью в грозненскую газету «Комсомольское племя»[К. 36], где, помимо прочего, авторами были указаны районы проживания и приблизительное число орстхойцев[41], а в 1999 году некоторые демографические сведения об орстхойцах сообщал социолог М. М. Юсупов в бюллетене «EAWARN» издательства ИАЭ РАН[84] (информация из газеты и бюллетеня использовалась в работе советско-российского учёного В. А. Шнирельмана[63]). Расселение и численность орстхойцев в 90-е годы XX века согласно этим двум источникам:
- Ачхой-Мартановский район[41][85] — орстхойцы проживают, но количественных данных нет; например, орстхойские семьи в селение Бамут (Гандалоевы, Мержоевы, Гулой)[41].
- Назрановский район[41][85] — более 10 000 орстхойцев; например, в селениях Плиево, Сурхахи, Экажево и Яндаре от 10 % до 30 % орстхойцев[41].( Мержой, Гулой, Цечой и др.)
- Малгобекский район[41][85] — орстхойцы проживают, но количественных данных нет; например, в селении Сагопши из 5000 жителей 4000 орстхойцы (Галаевы, Гандалоевы, Белхороевы, Боковы, Булгучёвы, Кориговы, Мержоевы, Гулой, Мужухоевы, Фаргиевы, Цечоевы и др.)[41].
- Сунженский район[41][85] — от 10 000 до 15 000 орстхойцев; например, в селениях Верхний Алкун и Алхасты до 90 % орстхойцев (Гулой, Галаевы, Белхороевы, Боковы, Булгучёвы, Кориговы, Мержоевы, Фаргиевы, Цечоевы и др.), в селениях Карабулак, Нестеровская и Орджоникидзевская — несколько тысяч орстхойцев[41].
- Город Грозный[41] — орстхойцы проживают, но количественных данных нет.
- Другие регионы СССР[41] — орстхойцы проживают, но количественных данных нет.
- Пригородный район и город Владикавказ (Северная Осетия)[41] — орстхойцы проживают, но количественных данных нет.
- Казахстан[41] — орстхойцы проживают, но количественных данных нет.
Этническая история
Этническая история орстхойцев рассматривается исходя из неоднозначности этнонима. Во-первых, под ним понимают собственно общество Орстхой, известная история которого начинается с начала XVIII века на берегах рек Арштынка и Футан[86]. Во-вторых, с какого-то, точно не установленного периода, название охватывает общества горных нахов, выходцы из которых и сформировали собственно орстхойцев — Галай, Мержой, Цечой и Ялхарой. История этих обществ-прародителей значительно древнее истории собственно орстхойцев, например, мержойцев связывают с топонимом «Мерези», известным из документов Русского царства с XVII века[К. 63], а башенный замок цечойцев Цеча-Ахки был заложен ещё в XV веке[87].
Происхождение
История происхождения орстхойцев на сегодняшний день остаётся дискуссионной, время и особенности зарождения этой этногруппы исследователями сообщаются на уровне предположений. Наиболее вероятно, что собственно общество Орстхой начало складываться на рубеже XVII—XVIII веков в низкогорной зоне на берегах рек Арштынка и Футан[К. 64]. Основу объединению положили выходцы из обществ Акка, Галай, Мержой, Цечой, Ялхарой и, возможно, небольшая часть из Нашхой[13]. В этногенезе орстхойцев иногда выделяли цечойцев — встречалось утверждение, что все орстхойцы своей прародиной считали средневековый цечойский аул Цеча-Ахки[67].
Возможно, все общества сформировавшие орстхойцев, когда-то входили в старинный Балойский союз[13], в котором некое племя балойцев было либо доминирующим обществом, либо предшественником-предком аккинцев, галайцев, мержойцев, нашхойцев, цечойцев и ялхаройцев. Также возможно, что «Балой» — это общее старинное название для всех этих обществ, например, А. С. Сулейманов сообщает, что орстхойцев и аккинцев раньше называли «Балой»[22]. Подтверждает некую связь балойцев с орстхойцами Н. Г. Волкова, зафиксировавшая во 2-й половине XX века применение среди части нохчмахкахойцев этнонима «Балой» к орстхойцам[23].
Альтернативные гипотезы происхождения
Среди некоторых исследователей существовала тенденция связывать исторических орстхойцев с легендарными нарт-орстхойцами из нахских сказаний «Нартского эпоса»[49]. Это сопоставление позволило сформировать не подтверждённое предположение, согласно которому орстхойцы — это нахское племя, которое ещё с периода средневековья жило на предгорной равнине и представляло собой нечто вроде пограничной стражи, аналог казачества, охранявшей внутренние территории горных нахов. Горцы за охрану расплачивались с ними частью скота, который необходимо было пасти на равнине в период сезонных отгонов. Со временем орстхойцы превратились из защитников в притеснителей горных нахских племён — они запрашивали высокую плату за выпас скота на равнине, совершали грабительские походы на своих соплеменников, похищали людей. Орстхойцы могли стать союзниками алан (возможная связь прослеживается в этнониме эла-орстхой[19]), с которыми вместе блокировали горы. И только в XIII веке, в период походов монгольских завоевателей на Северный Кавказ (Поход Джэбэ и Субэдэя, Западный поход), орстхойцы были выбиты в горы — в ущелья рек Асса и Фортанга[88].
Ещё одно предположение высказывал А. С. Сулейманов, а также повторяющий его сведения И. Е. Саратов — они сопоставляли орстхойцев с легендарными нарт-орстхойцами и связывали их на генетическом уровне со славянами, и даже с русскими[К. 14]. Среди аргументов указывались верования орстхойцев, где ведущим был культ священного оленя, как и у славянских жителей Ростово-Суздальского княжества; сам этноним, якобы созвучный со славянским топонимом Ростов[К. 15]; предания о переселении орстхойцев с берегов Чёрного моря, возможно, отсылка к существовавшему там славянскому княжеству[К. 65]. Проводя параллели между орстхойцами и русами, И. Е. Саратов, в отличие от А. С. Сулейманова, делал далекоидущие выводы, пытаясь обосновать гипотезу значительного присутствия славян на Северном Кавказе в период Средневековья[89].
Первые упоминания
Сведения об орстхойцах крайне скупы и появляются в географической литературе и документальных источниках Российской империи только со второй половины XVIII века, не позднее 60-х годов[51][36]. В первых упоминаниях орстхойцы известны под именем карабулаков, наряду с ангуштинцами (ингуши), равнинными чеченцами и горными кистинцами (нах. ломур, сегодня в составе ингушей и чеченцев)[36].
Формирование общества
Со временем эта этногруппа, условно называемая Верхние Карабулаки, заселила территории между средним течением реки Асса на западе и бассейном рек Фортанга и Шалажа на востоке[37].
В течение столетия, вплоть до начала XIX века, часть орстхойцев осваивает прилежащую равнину, со временем эта этногруппа, условно называемая Нижние Карабулаки, заселили территории между районом впадения реки Яндырка в Сунжу на западе и районом впадения реки Шалажи в Фортангу на востоке[37].
Период, когда появляются первые письменные свидетельства, упоминающие орстхойцев, — XVIII век[90]. В источниках орстхойцы выделялись как самостоятельная народность. Так, на карте 1733 года по берегам реки Фортанга отмечены принадлежащие этой этногруппе (под именем балсурцев) «100 деревень»[91]. На сегодняшний день принято считать, что к 70—80-м годам XVIII века путём объединения больших и влиятельных тайпов — Цечой, Мержой и собственно Орстхой — был сформирован военно-политический и территориальный союз — «общество Орстхой»[83].
Первые соприкосновения с Россией
В октябре 1768 года моздокским ротмистром А. Шелковым в Санкт-Петербург были доставлены сведения от коменданта Кизлярской крепости Н. А. Потапова — одни из первых официальных свидетельств в Российской империи об орстхойцах. Это были данные, собранные по приказу императрицы Екатерины II в преддверии Первой русско-турецкой войны (1768—1774 годы) о Кабарде и народах, живущих «в сторону Кубани». Орстхойцы назывались в сведениях «балсу» и упоминались вслед за живущими в юго-восточном направлении от реки Верхняя Кума карачаями (предгорные карачаевцы), чегемцами, караджау (предгорные дигорцы), балкарами (балкарцы) и дюгерами (горные дигорцы)[92]. В 1771 году орстхойцы принесли присягу на верность России[20], но в тот период такие договоры обычно не являлись актами присоединения того или иного кавказского народа к Российскому государству, а подписывались для извлечения сиюминутных выгод, и вскоре, после достижения поставленных задач, о них забывали. Однако, капитан Дегостодия докладывал генералу И. Неймичу: «Они при первом случае доказали себя всеми образы доброжелательными, прося старшины и народ, чтобы, приняты были в вечное е.и.в. подданство, обещаясь дать от себя аманат»[20].
Окончание Русско-турецкой войны и подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774 год), помимо прочего, внесли значительные изменения и в жизнь народов Северного Кавказа — Кабарда была признана в составе России, также российские власти объявили под своей властью и осетин, которые начали переселяться на равнину (так называемую «плоскость»). Орстхойцы в конце XVIII — начале XIX веков тоже начали расселяться из горной области Орстхой-Мохк на реку Сунжу, а в дальнейшем на территории, соответствующие равнинным и предгорным районам современных Чечни, Ингушетии и Дагестана[93] (вероятно, ещё в 1772 году бо́льшая часть орстхойцев переселилась на предгорные равнины[20]). Известно, что в 1782 году, по просьбе части орстхойцев и осетин, российскими властями была построена крепость у Татартупа, для защиты просителей от кабардинцев и горных чеченцев[94]. Среди различных источников сохранилось свидетельство подполковника российской армии, дивизионного квартирмейстера Л. Л. фон Штедера (1781 год), сообщавшего о совместном расселении в ряде сёл на «плоскости» орстхойцев с ингушами[95]:
Я следовал берегом реки Сунжи через равнины, и поля ингушей почти до гор. По ту сторону [Сунжи] на 4 версты восточнее лежали под лесистым отрогом 3 или 4 деревни ахкиюртовцев, представляющих смесь ингушей и карабулаков …
Зависимость от Кабарды
В конце XVIII — начале XIX веков в тактических интересах российских властей было время от времени использовать тезис о подвластности некоторых горских народностей Кабарде (в том числе и орстхойцев). Это позволяло распространять сферу влияния Российской империи на суверенные или зависимые от Турции территории, которые якобы были в вассальной зависимости от уже ставшей российской Кабарды. Сообщения о том, что кабардинские «владельцы» издревле собирали дань с орстхойцев и других горских народов, лишены основания, и хотя какой-то период выплаты податей имели место, но связано это было со временем, когда кабардинцам покровительствовала Россия и снабжала их более современным вооружением[96]:
… Осетинцы, Балкарцы, Карачаевцы, Абазинцы, Ингушевцы и Карабулаки [то есть орстхойцы] есть люди вольные, и хотя они с некоторых времён и платили им [кабардинским «владельцам»] подати, но сие единственно последовало от вышеписанного предмета силы оружия Российского и покровительства им, Кабардинцам, данного, и тогда ещё Российское правительство не имело совершенного сведения о состоянии и вольности тех народов.И. П. Дельпоццо[97]
Кавказская война
В период череды локальных войн на Северном Кавказе XVIII—XIX веков, а особенно во время наиболее агрессивной политики Российской империи — так называемой «Большой Кавказской войны» (1817—1864 годы), орстхойцы активно принимали участие в противодействии покорению горских народов. Когда было образовано теократическое государство Северо-Кавказский имамат, часть орстхойцев оказалась в пределах двух его административных единиц — Арштинского (собственно орстхойского) и Галашкинского вилайетов[20]. Большая их часть присоединилась к борьбе, организованной лидером имамата — Шамилем, известно, что одним из его сподвижников был орстхоец — Джамбулат Цечоев (Дзегоев). Многие источники говорят об орстхойцах, как об одном «из самых воинственных племён вайнахского народа»[19].
Хронология основных событий:
- 1807 год — «усмирение» орстхойцев российскими войсками под предводительством генерал-майора П. Г. Лихачёва. Военный историк В. А. Потто назвал это деяние «последним подвигом пятнадцатилетней службы Лихачёва на Кавказе»[98].
- 1825 год — российские войска совершили военную экспедицию в орстхойские поселения по рекам Асса и Фортанга[20].
- 1827 год — очередное признание орстхойцами российского подданства. Наряду с некоторыми другими северокавказскими народностями, орстхойцы присягнули России благодаря действиям командующего войсками на Кавказской линии, в Черномории и Астрахани (а также начальника Кавказской области) — генерала Г. А. Эммануэля, которому в награду за это присоединение, сделанное не силой оружия, а умными распоряжениями, был пожалован Орден Святого Александра Невского[99].
- 1858 год — орстхойцы совместно с назрановцами, галашевцами и жителями Тарской долины приняли участие в одном из эпизодов Большой Кавказской войны — Назрановском восстании, окончившемся безуспешно[20].
- 1865 год (после окончания войны) — в Турцию было выселено/переселилось несколько тысяч орстхойцев[К. 66], фактически основная часть этой народности — в ЭСБЕ даже сообщалось, что орстхойцы/карабулаки — это племя, «целиком выселившееся в Турцию»[100][101].
Некоторые упоминания об участии орстхойцев в военных действиях из российских документальных свидетельств[20]:
Рапорт от 30 марта 1840 года:
Вся Большая Чечня к нему [к Шамилю] передалась, равно как мичиковцы и ичкеринцы и многие ауховцы; качкалыковцы удерживаются в повиновении только присутствием нашего отряда. Некоторые из карабулакских [то есть орстхойских] и ингушевских деревень, все галгаевцы и кистинцы также в большом волнении и содействуют тайно или явно возмутителю.генерал П. Х. Граббе
Донесение графу А. И. Чернышёву от 3 октября 1840 года:
В настоящем положении дел на левом фланге Линии Чечня в особенности обращает на себя внимание, ибо там, кроме коренных её жителей, гнездятся теперь все беглые карабулаки [то есть орстхойцы], назрановцы, галгаевцы, Сунженские и Надтеречные чеченцы и по призыву предводителя их Ахверды-Магомы, сподвижника Шамиля, собрать могут значительные силы, хорошо вооружённые, вблизи Военно-Грузинской дороги.генерал Е. А. Головин
Советский период (XX в.)
Вероятно, в 1920-х годах джераховцы и орстхойцы окончательно интегрировались в ингушскую этническую общность, после чего, по мнению некоторых исследователей, можно считать завершившейся консолидацию ингушей как народа и принятие ими общего самоназвания галгай[К. 67]. В XX столетии шёл активный процесс ассимиляции орстхойцев ингушами, а некоторой части орстхойской этногруппы — чеченцами[85].
Постсоветский период (кон. XX — нач. XXI вв.)
В наши дни представители общества Орстхой частью растворились среди современных чеченцев, а частью — среди ингушей, также потомки орстхойцев проживают и за границей — в Турции[101]. В начале 1990-х годов орстхойцев охватило движение за национальное возрождение[85].
Культура
Язык
Орстхойцы являлись и являются носителями орстхойского диалекта, но, в наши дни, в Российской Федерации они также используют ингушский, русский или чеченский языки (в Турции — турецкий). Различные исследователи могут по-разному транскрибировать название орстхойского диалекта — arştxojn, erştxojn, orstxojn, также употребляются наименования «карабулакский» (karabulak, qarabulak) и «балой» (balojn — устар. название у чеченцев)[104]. Согласно современной лингвистической классификации, орстхойский диалект входит в аккинско-орстхойское наречие (устар. — «галанчожское»), которое наряду с бацбийским, ингушским и чеченским языками относится к нахской ветви нахско-дагестанских языков (аккинско-орстхойское наречие с ингушским и чеченским языками с 1970-х годов объединяют в вайнахский языковой кластер[104]). Одним из первых орстхойский диалект изучал А. Н. Генко (1930-е годы), основываясь на материалах, имеющихся в исследованиях Л. Л. Штедера (2-я пол. XVIII века) и Ю. Г. Клапрота (нач. XIX века). А. Н. Генко сближал орстхойский диалект с чеченским языком, но выделял его в особую группу[7]. В начале XXI века использование орстхойского диалекта зафиксировано в центральной и северной Ингушетии (напр. в селе Сагопши), где орстхойцы официально причислялись к ингушам с ингушским языком; в Чечне орстхойский диалект был распространён на западе (напр. в верховьях рек Нетхой и Шалажа), но после депортации вайнахов в 1944 году сведений о его использовании в Чечне нет[104].
Среди исследователей до сих пор идут споры о том, относить ли аккинско-орстхойский лингвистический таксон к языкам или диалектам. С этим связан вопрос, занимает ли аккинско-орстхойский лингвистический таксон промежуточное положение между ингушским и чеченским языками — тогда это язык/наречие, или относится к одному из них — тогда это диалект, а речь орстхойцев классифицируется только как говор. Например, Ю. Б. Коряков определял аккинско-орстхойское наречие наравне с ингушским и чеченским языками, и указывал его как переходное между ними, однако, он отмечал, что обычно его рассматривают как диалект внутри либо ингушского, либо чеченского языков[105]. Российский кавказовед, д.и.н. Ю. Ю. Карпов также видел в нахской подгруппе эти языки как равные — «родственные между собой чеченский, ингушский, карабулакский и бацбийский языки, составляющие нахскую (вайнахскую) языковую подгруппу, имеют общие генетические корни …»[106]. Я. З. Ахмадов считал орстхойцев отдельной нахской народностью[39], но «чеченскими по языку»[36]. Известно обращение через газету инициативной группы орстхойцев в 1990 году[К. 36], возмущённых некоторыми чеченскими исследователями, классифицировавшими орстхойский диалект как один из говоров чеченского языка[41] (см. Аккинско-орстхойское наречие § Классификация).
Нравы и обычаи
В 1978 году, на основании рассказов местных жителей, А. С. Сулеймановым были собраны немногочисленные сведения о некоторых обычаях орстхойцев. В частности, он сообщает, что вплоть до конца XVIII века орстхойские мужчины, подчёркивая своё высокородное происхождение (эзди нах), носили длинные кудри, а женщины — высокие причёски (кур). Традиционно придавая некое важное значение волосяному покрову головы, орстхойцы заставляли начисто брить головы всех мужчин, попадавших в их зависимость[34].
Помимо прочего, описывая орстхойцев, А. С. Сулейманов упоминает, что «это одно из самых воинственных племён вайнахского народа»[107], подобная характеристика прослеживается и в источниках Российской империи, вероятно, под влиянием борьбы орстхойцев за независимость в период Большой Кавказской войны (1817—1864 годы). Сопротивление этой народности было столь упорным, что в статье о чеченцах в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» орстхойцы (в ЭСБЭ карабулаки) названы как «самое враждебное нам [России] племя»[100]. Согласно характеристике источника XIX века орстхойцы «самый беспокойный народ и ничем не удовлетворяются»[108].
Язычество
В средневековье нахские племена, в том числе и орстхойцы, придерживались собственных языческих верований, которые на сегодня мало изучены[109]. Они сформировали свой мифологический пантеон, основные культы в котором были посвящены поклонению силам природы и олицетворяющих эти силы богам и богиням. Предполагается существование и второстепенных культов, имевших прикладное значение, божества в них были антропоморфны и зооморфны[109]. В сказаниях эти сущности вмешивались в человеческую жизнь, принимая облик обычных людей или животных[109].
У многих народов Северного Кавказа бытовали древние эпические сказания — «Нартский эпос», генезис которого среди учёных до сих пор остаётся спорным. Существенно отличаются от прочих сказания о богатырях-нартах в среде нахского населения — здесь они выступают неоднозначными, в основном отрицательными персонажами. Нахский эпос сохранился фрагментарно, в нём у нартов имеется дополнительное имя — орхустойцы/орстхойцы (нарт-арштхой, нарт-орстхой), в котором некоторые исследователи видят возможный эпоним исторических орстхойцев. Отличие в восприятии нахами характера нартов иногда трактуют как подчёркивание связи орстхойцев с исконными врагами горцев — жителями равнин (например, в некоторый период аланами), что позволяет предположить первоначальным местом обитания исторических орстхойцев предгорные равнины[38] (см. § Альтернативные гипотезы происхождения). Согласно ингушскому этнографу конца XIX — начала XX веков Ч. Э. Ахриеву, нярты/нарты и орхустойцы/орстхойцы это две группы мифологических персонажей — высоконравственные и злокозненные соответственно. Другой этнограф того же периода — Б. К. Далгат — считал, что наименования «нарты» и «орстхойцы» служат для обозначения одной категории героев — злых и коварных насильников, совершающих набеги на мирных людей и притесняющих безвинных. Этой точки зрения придерживались и последующие исследователи советского периода. Некоторое характерное отличие прослеживается в ингушских сказаниях — здесь иногда нарты-орстхойцы совместно с ингушами защищают родные земли от врагов, наступающих с равнин, а также роднятся с местными героями[110].
До принятия ислама, вероятно, в среде орстхойцев ведущее место занимал культ священного оленя[19].
Ислам
Сами орстхойцы одними из первых среди вайнахских обществ приняли ислам, что определённым образом сблизило их с уже находящимися в лоне этой религии чеченцами и отдалило от ингушей, придерживавшихся на тот момент в основном традиционных верований.
Хозяйствование
В XVIII веке было зафиксировано одно упоминание об орстхойцах, как о кочевниках[111], однако, все остальные источники считали их оседлым обществом. Среди различных форм хозяйственной деятельности известно о соледобыче в Орстхой-Мохк — она существовала в поселениях Мага, Юкиерачу и Ига Берешки («Верхние, Средние и Нижние соляные озёра»), у Даттыха (хребет Вир-букие — «Ишачья спина»), у аула Мержой-Берам («Соляные озёра мержойцев») и других. Поваренная соль обычно получали путём выпаривания воды и из соляных озёр, источников и колодцев[112].
Примечания
- Комментарии
- Представители многих северокавказских народов использовали сложную и не всегда однозначную систему названий для существовавших в их среде форм социальных и военных объединений. Например, нахские народы имели целую иерархическую систему таких объединений, состоящую из групп разного статуса и размера — тукхумы/шахары, тайпы, гары, некъи, ца, доьзалы и другие. Крупные формы таких союзов не имеют единого северокавказского названия и для упрощения в кавказоведении используется термин вольные общества или просто общества.
- Также балойцами часть нохчмахкахойцев/ичкеринцев называла горных аккинцев и ялхоройцев. Вероятно, это имя происходит от названия общества Балой, представители которого могли являться общими предками этих этнических групп — орстхойцев, горных аккинцев и ялхоройцев.
- Также карабулаками русские источники XVIII—XIX вв. иногда называли равнинных аккинцев/ауховцев (в дореформенной орфографии этнонимы указывались с большой буквы — Карабулаки). Вероятно, распространение имени карабулаки на равнинных аккинцев было связано с тем, что орстхойцы/карабулаки составляли значительную часть переселенцев, участвовавших в формировании этой этнической группы.
- Чеченский исследователь-краевед А. С. Сулейманов относит к Орстхой-Мохк и земли освоенные частью орстхойцев переселившихся севернее — в долину реки Сунжа (запад Чеченской равнины). Здесь они основали селения Элдархан-Гала, Обург-Юрт, Сипсо-Гала, Эна-Хишка, Гажар-Юрт, Эха-Борзе и др. (соответ. совр. Карабулак, Троицкая, Орджоникидзевская, Серноводская, Нестеровская, Ассиновская) (Сулейманов, 1978, с. 78—79, Сулейманов, 1985, с. 20—21).
- Часть орстхойцев переселилась ещё восточнее — вплоть до Дагестана, где они составили значительный компонент в этногенезе равнинных аккинцев.
- Например, см. § Варианты орфографии Малхиста, § Варианты орфографии малхистинцев, § Варианты орфографии орстхойцев и др.
- Также в работе А. С. Сулейманова имеется и более фантастичная версия происхождения этого тайпа: исследователь сообщает, что представители одного из чеченских обществ — тайпа Дай — считали предками орсойцев древних греков.
- Я. З. Ахмадов, возводя гидроним к древнеиранскому языку, указывал название реки как «Аршты» (Ахмадов Я. З., 2009, с. 161).
- В «Киргизско-русском словаре» слово «арашан» указывается как санскритское, попавшее в кыргызский язык через уйгурский (Киргиз.-рус. слов., 1985 (1965), с. 65).
- Указанные исследователи в различной степени признаны официальной наукой, и некоторые их работы имеют спорную ценность в научной среде этимологов и лингвистов.
- В современных словарях морфема орц указывается в значении «поросший лесом северный склон горы» (Ингуш.-рус. слов., 2005, с. 330; Ингуш.-рус. слов., 2009, с. 536), иногда отмечается, что значение устаревшее (Ингуш.-рус. слов., 2005, с. 330).
- Например Арцах (часть Сюника), Арсис (название связано с городом Мусасир), Арцевани («предгорное село»), Карарс/Карарц («чёрный/обугленный Арц») и др. (Туманов, 1913).
- В работе А. С. Сулейманова даны разные варианты наименования общества орстхойцев — «Арстах», «Арстхой», «Арштхой» и «Орстхой», однако, для объяснения этимологии этнонима он выбрал словоформу «Эрштхой» (Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 80).
- Связь орстхойцев со славянами предположил чеченский краевед и педагог А. С. Сулейманов в «Топонимии Чечено-Ингушетии» (Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 4, 79—80). Однако, он отметил, что все его предположения на уровне догадок и сопоставлений, как, например, этимология этнонима «Орстхой», которая так и остаётся до конца не выясненной (Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 79). На основании его работы, провёл далеко идущие славяно-орстхойские параллели непрофильный исследователь, к.т.н. И. Е. Саратов (Саратов, 1985, с. 36).
- В оригинале у А. С. Сулейманова — Ростов Великий Ярославский и Ростов-на-Дону (Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 80), у И. Е. Саратова — только Ростов в Суздальско-Ростовском княжестве (Саратов, 1985, с. 36).
- Антропонимические сопоставления присутствуют только в работе А. С. Сулейманова (Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 80), И. Е. Саратов, повторяя вслед за ним почти всю информацию об орстхойцах, не упоминает эти параллели (Саратов, 1985, с. 33—43).
- Арса — этноним, о котором сообщают восточные авторы (например, арабский географ Ибн Хаукаль в «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик», 970-е годы), как об одной из групп русов, помимо куйаба (киевлян) и салавийа (славян). Я. С. Вагапов считал, что носители нахских языков в качестве названия части славян арса могли употреблять форму, образованную от морфемы арса: арсай — орсой — оьрсий — эрсий, что означало «лесные» (Вагапов, 2008 (1990), с. 60).
- О распространённости в старинных русскоязычных источниках именно этнонима «карабулаки» сообщали многие исследователи (Волкова, 1973, с. 162; Кодзоев, 2002; Шнирельман, 2006, с. 209; Ахмадов Я. З., 2009, с. 114).
- Ахмадов Я. З., 2009, с. 162, 169 (ссылаясь на РГАДА, Ф. 379, Оп. 1, Д. 524, Л. 36 об.; Броневский, 1823, с. 181—182; Волкова, 1974, с. 163—164).
- Слова на древнетюркском переданы, так называемой, трансграфикой, представляющей собой сплав транслитерации и фонематической транскрипции. Сложилась в тюркологии исторически, в связи особенностями древнетюркских графических систем (Древнетюрк. слов., 1969, с. XIV).
- В оригинальном издании словаря «Топонимия Чечено-Ингушетии» (Часть II) в разделе «Микротопонимия ДаьтталгIa и АгIa-Босса» нет сопоставления гидронима «Балсу» и реки Фортанга (Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 98—100). Оно появляется в переиздании словаря «Топонимия Чечни» 1997 года, где составитель словаря или редактор, по какой-то причине добавил в раздел «Микротопонимия ДаьтталгIa и АгIa-Босса» данные о реке Ашхойн Марта (она же Балсу, и здесь сопоставлялась с Фортангой). Информация была внесена некорректно, так как ниже остался абзац про эту же реку из оригинального издания (Топоним. слов. Сулейманова, 1997, с. 22).
- Значение в древнетюркском языке словоформы qara — I. 1) «чёрный» (о цвете), 2) «тёмный/лишённый света/погружённый во мрак» (как сущ. «мрак/тьма»), 3) перен. «горестный/безрадостный», «злосчастный/злополучный», «лихой/тяжёлый/изнурительный», 4) перен. «плохой/скверный» (как синоним отрицательного начала), 5) перен. «обыкновенный/для повседневных нужд/непарадный/простой», «низкосортный/грубый», 6) «грязь», 7) «чернила/тушь»; II. «масса/толпа», «простой люд/чернь», «подданные правителя/народные массы/народ»; III. Компонент имени собственного правителей из династии Караханидов (Древнетюрк. слов., 1969, с. 422—424).
- Значение в древнетюркском языке словоформы bulaq — I. 1) «источник», «канал/арык»; II. этническое название одного из тюркских племён; III. то же, что и bolaq: bolaq at — «вислозадая лошадь с широким крупом» (Древнетюрк. слов., 1969, с. 112, 121—122).
- О том, что данная связка гидроним—этноним восходит к тюркским языкам сообщали многие исследователи (некоторые указывали не совсем точный перевод): 1) А. С. Сулейманов — «Чёрный источник/родник» и, не совсем точно, — «Чёрная речка» (в кумыкском «река» — оьзеи, къойсув, Рус.-кумык. слов., 1960, с. 874), также приблизительно он выводил от гидронима этноним — «чернореченские» (Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 80, 115); 2) Ш. Б. Ахмадов, ссылаясь на А. С. Сулейманова — «горная речка» (Ахмадов Ш. Б., 2002, с. 234), однако, в работе А. С. Сулейманова такой перевод отсутствует (Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 115); 3) Ингушский историк Н. Д. Кодзоев — «чёрный источник»; 4) Я. З. Ахмадов — «Чёрный родник» и, не совсем точно, — «Чёрная вода» (в кумыкском «вода» — сув, Рус.-кумык. слов., 1960, с. 93) (Ахмадов Я. З., 2009, с. 162).
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 115; Ахмадов Ш. Б., 2002, с. 234 (ссылаясь на Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 115).
- Огузский род Караболук упоминался, например, в «Древнетюркском словаре», указывался со строчной буквы (Древнетюрк. слов., 1969, с. 424).
- В оригинале этноним употребляется не как «эрштхоевцы», а как «орстхойский (эрштхойский) этнос»[41].
- Одним из первым ввёл понятие тукхум для чеченцев и попытался установить их количество М. А. Мамакаев. В статье 1934 года (опубликована в 1936 году) «Правовой институт тайпизма и процесс его разложения» автор совсем не упоминает термин «тукхум»[55]. Дефиниция «тукхум» появляется в изменённых и дополненных переизданиях этой работы 1962 года — «Чеченский тайп (род) и процесс его разложения», здесь М. А. Мамакаев выделил 8 чеченских тукхумов[56] и 1973 года — «Чеченский тайп (род) в период его разложения», здесь уже общепринятая в дальнейшем цифра — 9 тукхумов[57].
- Ингушский историк Н. Д. Кодзоев указывал 6 ингушских шахаров: Галгай, Джейрахой, Орстхой, Фяппий, Цорой, Чулхой, также сообщал о легендарных 12 шахарах[20]; этнопсихолог, к.пед.н. О. С. Павлова указывала 7 ингушских шахаров, добавляя к предыдущим ещё Аккий[58], но в её работе также присутствует утверждение и о самостоятельном положении общества Орстхой[59].
- Например, Н. Д. Кодзоев[20], Бекова А. И. и др.[3] и др.
- Например, М. А. Мамакаев[56][57], Д. А. Хожаев[61] и др.
- Генко, 1930, с. 685, ссылаясь на «Ведомость народам, обитающим между морями Чёрным и Каспийским на пространстве, подвластном России с означением народонаселения сих племён, степени их покорности к правительству и образе правления», 1833 (РГВИА Ф. 13 454., Оп. 12., Д. 70), выписка из «Ведомости …» опубликована в приложении к Военно-статистическому описанию Терской области Г. Н. Казбека, ч. I, Тифлис, 1888, С. 4.
- Волкова, 1973, с. 170; Шнирельман, 2006, с. 209—210 (ссылаясь на Н. Г. Волкову, 1973, с. 162, 170—172).
- Например, Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 80; Волкова, 1973, с. 170 (и Волкова, 1974, с. 163); Ахмадов Ш. Б., 2002, с. 230; Шнирельман, 2006, с. 209; Ахмадов Я. З., 2009, с. 52, 114 и другие.
- Волкова, 1973, с. 170—171; Шнирельман, 2006, с. 209—210 (ссылаясь на Н. Г. Волкову, 1973, с. 162, 170—172).
- Статья подписана тремя человеками: Х. Коригов — начальник ППО УМ-4 треста «ГТПС», С. Мержоев — диспетчер Прикаспийского отделения ВНИГИИК, М. В. Белхороев — прокурор Заводского района города Грозный[41].
- У А. С. Сулейманова — Белхарой[50].
- У А. С. Сулейманова — Булгучан-некъие[50].
- Информация о том, что Дзангиевы выходцы из Эги-Чож упоминается, например, в соцсетях — это утверждает на Facebook житель Ингушетии Ислам Дзангиев[76].
- Информация о том, что Хашиевы выходцы из Эги-Чож упоминается, например, в соцсетях — это утверждает на Facebook житель Ингушетии Ислам Дзангиев[76].
- Носители фамилии Баталовы могут быть разного происхождения: 1) орстхойские семьи проживают в Сагопши (переселились сюда из-за кровной мести); 2) Баталовы-Умаровы ведут родословную из Лейми; 3) проживающие в Грозном Баталовы — от Тангиевых.
- У А. С. Сулейманова — Ферг-некъие[50].
- Носители фамилии Арсамаковы могут быть разного происхождения: 1) несколько орстхойских семей из Экажево ведут свою родословную от Фаргиевых; 2) Арсамаковы из Аки-Юрт — от Евлоевых; 3) из Верхних Ачалук — от Чемхильговых; 4) есть ещё несколько Арсамаков, ведущих свою родословную от других ингушских фамилий.
- У А. С. Сулейманова — Галай[50].
- У А. С. Сулейманова — ГIандалой[50].
- Носители фамилии Гандолоевы могут быть разного происхождения: 1) орстхойские семьи из Бамута, Кескема, Сагопши и Яндырки; 2) часть Гандалоевых из Сагопшей не родственна Гандалоевым-орстхойцам и ведёт свою родословную от чеберлойцев.
- Носители фамилии Акбиевы могут быть разного происхождения: 1) нескольких семей из Сагопши, ведущие свою родословную от гандалойцев (орстхойцы); 2) семьи проживающие в Средних Ачалуках и ведущие свою родословную от выходца из Кабарды по имени Шаул (бежал из-за кровной мести в горную Ингушетию и побратался с представителями общества Коккорхой).
- У А. С. Сулейманова — Мержой[50].
- Информация о присутствии представителей тайпа Мержой в составе этногруппы аккинцев-ауховцев упоминается, например, в работе Н. Г. Волковой[78] и в переиздании словаря А. С. Сулейманова[79].
- У А. С. Сулейманова — Мержой[50].
- У А. С. Сулейманова — Мужахой[50].
- Носители фамилии Актомировы — орстхойские семьи из Экажево, не следует путать с Актемировыми (Верхние Ачалуки, возводят родословную к Чемхильговым) и Актимировыми (Экажево, возводят родословную к Шоанхоевым).
- У А. С. Сулейманова — Виелха-некъие[50].
- У А. С. Сулейманова — Оьрг-некъие[50].
- У А. С. Сулейманова — Хьевхьарой[50].
- У А. С. Сулейманова — ЦIечой[50].
- Информация о присутствии представителей тайпа Цечой в составе этногруппы аккинцев-ауховцев упоминается, например, в работе Н. Г. Волковой[82] и в переиздании словаря А. С. Сулейманова[79].
- Информация о принадлежности Боковых к тайпу Цечой упоминается, например, в СМИ — это утверждает интервьюируемый журналистом ИА «Кавказский Узел» житель Ингушетии Абдулла Боков[76].
- У А. С. Сулейманова — Бока-некъие[50].
- У А. С. Сулейманова — Iалха некъи[50].
- У А. С. Сулейманова — Жейи[50].
- В переиздании 1997 года появляется некоторая политизация текста статьи об орстхойцах в работе А. С. Сулейманова: 1) тайпы Ялхорой и Галай обозначены как чеченские (если первый бесспорно чеченский, то второй является чечено-ингушским); 2) граница расселения орстхойцев на равнине указана уже не расплывчато «уходила в затеречные пески», а конкретно — «уходила за реку Сунжу»; 3) опущена первоначальная характеристика А. С. Сулейманова орстхойцев, как племени занимавшего промежуточное положение между ингушами и чеченцами (Сулейманов, 1978, с. 78-80; Сулейманов, 1997).
- Два документа — 1) 1616 год ранее октября 6-го: «Челобитная служилых „окочан“ Терского города, поданная в Терской приказной избе, о притеснениях со стороны кабардинского кн. Сунчалея Янглычевича Черкасского»; 2) 1619 год позднее мая 4-го: «Отписка терского воеводы Н. Д. Вельяминова в Посольский приказ о принесении шерти кабардинским мурзой Алегукой Шегануковым и о просьбе кабардинских мурз прислать к ним ратных людей для совместной борьбы с ногайскими татарами» (Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII веках. (недоступная ссылка) — М: Издательство Академии Наук СССР, 1957. — Т. 1. — С. 95, 97).
- Ингушский историк Н. Д. Кодзоев считал, что общество Орстхой складывалось с конца XVII века — периода когда начинался процесс переселения нахов на равнину (в его работе встречается и другое утверждение: исследователь перечисляет общество Орстхой среди 6 ингушских шахаров, образование которых он относит к более раннему периоду — ко 2-й половине XVI — XVII векам) (Кодзоев, 2002). Я. З. Ахмадов относил время формирования общества Орстхой к первым десятилетиям XVIII века (Ахмадов Я. З., 2009, с. 161).
- Сообщая о существовании преданий, описывающих переселение орстхойцев с берегов Чёрного моря, А. С. Сулейманов цитировал высказывание, где это переселение отражено не для всех орстхойцев, а только для мержойцев (информатор Мержоев Майрбек Мурцалиевич, 1940 года рождения, уроженец села Бамут)[34]. И. Е. Саратов, опираясь на работу А. С. Сулейманова, не совсем точно указывал это переселение для всех орстхойцев[33].
- Ингушский историк Н. Д. Кодзоев так указал численность переселенцев: «около 3—5 тысяч ингушей (в основном орстхоевцев)»[20].
- Эта точка зрения высказана ингушским исследователем Н. Ахриевым[102], использовалась в работе советско-российского учёного В. А. Шнирельмана[103].
- Источники
- Pavlova, O. S. (Olʹga Sergeevna), Павлова, О. С. (Ольга Сергеевна). Ингушский этнос на современном этапе: черты социально-психологического портрета. — Moskva: Forum, 2012. — С. 59. — 383 pages с. — ISBN 9785911346652, 5911346656.
- Ингуш.-рус. слов., 2005, с. 330.
- Ингуш.-рус. слов., 2009, с. 536.
- Гюльденштедт, 2002, с. 243, 309.
- Гюльденштедт, 2002, с. 407 (комм.).
- Ахмадов Ш. Б., 2002, с. 230.
- Генко, 1930, с. 685.
- Например: Сулейманов А. С. Топонимия Чечено-Ингушетии, ч. 1. — Гр.: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1976. — С. 34, 105.
- Этимол. слов. Вагапова, 2011, с. 458.
- Ахмадов Я. З., 2009, с. 161—162.
- Вагапов, 2008 (1990), с. 72, 79.
- Рус.-перс. слов., 2008 (1986), с. 66, 70, 784.
- Ахмадов Я. З., 2009, с. 162.
- Вагапов, 2008 (1990), с. 55, 60.
- Этимол. слов. Вагапова, 2011, с. 94.
- Вагапов, 2008 (1990), с. 52, 55, 60.
- Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. — М.: Наука, 1972. — С.115
- Бызов, 2008 (2005), с. 189, 191.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 80.
- Кодзоев, 2002.
- Ахмадов Я. З., 2009, с. 146.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 111, 115, 163.
- Волкова, 1973, с. 170.
- Древнетюрк. слов., 1969, с. 79.
- Древнетюрк. слов., 1969, с. 513.
- Гюльденштедт, 1809, с. 460.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1997, с. 22.
- Ахмадов Ш. Б., 2002, с. 231.
- Рус.-кумык. слов., 1960, с. 1107—1108.
- Рус.-кумык. слов., 1960, с. 316, 334, 881.
- Древнетюрк. слов., 1969, с. 117—118, 121—122.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 38, 78, 80.
- Саратов, 1985, с. 36.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 79.
- Бызов, 2008 (2005), с. 189.
- Ахмадов Я. З., 2009, с. 52.
- Ахмадов Я. З., 2009, с. 161.
- Бызов, 2008 (2005), с. 190—191.
- Ахмадов Я. З., 2009, с. 114.
- Вагапов, 2008 (1990), с. 52.
- Комсомольское племя, 01.11.1990.
- Автандилян, 2008 (2001), с. 152.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 4, 163.
- Вагапов, 2008 (1990), с. 60.
- Ингуш.-рус. слов., 2005, с. 330, 474.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 78—80, 83, 101, 105, 115.
- Шнирельман, 2006, с. 207, 209.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 64, 78—80.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 79—80.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 78.
- Волкова, 1973, с. 162.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 115.
- Гюльденштедт, 2002, с. 50, 243, 309.
- Вагапов, 2008 (1990), с. 52, 60.
- Мамакаев, 1936, с. 55—71.
- Мамакаев, 1962, с. 10, 42.
- Мамакаев, 1973, с. 16—19, 84.
- Павлова, 2012, с. 34.
- Павлова, 2012, с. 57, 59.
- Натаев, 2015, с. 2, 7.
- Комсомольское племя, 04.10.1990.
- Кавказский Узел, 15.10.2018.
- Шнирельман, 2006, с. 372—373.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 79, 115.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 105, 115.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 101.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 79, 83.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 105.
- Мамакаев, 1973, с. 19.
- Мамакаев, 1973, с. 22.
- История Чечно-Ингушетии, 1991, с. 50.
- Частный сайт А. Шнайдера: Чеченские тейпы и тукхумы.
- Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX в. — М., 1974. — С. 160—161.
- Волкова, 1974, с. 166.
- Волкова, 1974, с. 161, 166, 228, 243.
- Кавказский Узел, 16.11.2018.
- Шукри Дахкильгов. «Происхождение ингушских фамилий»
- Волкова, 1974.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1997, с. 381.
- Волкова, 1974, с. 161, 163.
- Ингуш.-рус. слов., 2005, с. 474.
- Волкова, 1974, с. 204.
- Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX в. — М., 1974. — С. 163.
- Юсупов, 1999.
- Шнирельман, 2006, с. 372.
- Ахмадов Я. З., 2009, с. 52, 161.
- Ильясов, 2004, с. 328.
- Бызов, 2008 (2005), с. 189—191.
- Саратов, 1985, с. 33—43.
- Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. — М.: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1973. — С. 162.
- Вахушти Багратиони. География Грузии. Записки Кавказского отдела РГО, кн. 24, вып. 5. — Тифлис, 1904. — С. 151.
- Документальная история образования многонационального государства Российского. В 4-х книгах. Книга первая. Россия и Северный Кавказ в XVI—XIX веках. / Под общей ред. Г. Л. Бондаревского и Г. Н. Колбая. — М.: «Норма», 1998. — С. 175.
- Ахмадов Ш. Б., 2002, с. 68, 234.
- Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722-го по 1803 год. Извлечения. — Нальчик: «Эль-Фа», 2001. — С. 318.
- Кодзоев Н. Д. Глава 4. § 1. Жизнь ингушей на равнинах и в горах // История ингушского народа. — 2002.
- Кипкеева З. Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, миграции, территории. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. — С. 148—149.
- АКАК, Т. 4. — Тифлис, 1870. — С. 879.
- Потто В. А. С древнейших времён до Ермолова // Каваказская война. — Ставрополь: «Кавказский край», 1994. — Т. 1. — С. 623.
- [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/48849/Эммануэль#sel=3:1749,3:1783 Эммануэль, Георгий Арсеньевич] // Большая Биографическая Энциклопедия. — СПб.: тип. Главного Упр. Уделов, 1912.
- Чеченцы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Ахмадов Ш. Б., 2002, с. 44.
- Ахриев Н., 19.02.1992, с. 2.
- Шнирельман, 2006, с. 206—207.
- Коряков, 2006, с. 26.
- Коряков, 2006, с. 26—27.
- Гюльденштедт, 2002, с. 406 (комм.).
- Сулейманов А. С. Топонимия Чечено-Ингушетии, ч. 2. — Гр.: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1978. — C. 80.
- Сборник сведений о кавказских горцах. VIII. 29. — Тифлис, 1875.
- Ильясов, 2004, с. 214.
- Мифы народов мира / Отв. ред. С. А. Токарев. — М.: «Советская энциклопедия», 1992. — Т. 2. — С. 199—200.
- Гюльденштедт, 2002, с. 243.
- Топоним. слов. Сулейманова, 1978, с. 82, 83, 88, 99.
Литература
- II часть : Горная Ингушетия (юго-западная часть), Горная Чечня (центральная и юго-восточная части) : топоним. слов. // Топонимия Чечено-Ингушетии : в IV частях (1976—1985 гг.) / Сост. А. С. Сулейманов, ред. А. Х. Шайхиев. — Гр. : ЧИ кн. изд-во, 1978. — 289 с. — 5000 экз.
- Автандилян Р. А. Чеченский вопрос по-новому : ст. // Чеченский архив (Сборник материалов по истории чеченского народа) : сб. / Сост. Ш. Ю. Саралиев, З. М.-С. Мусаев, И. З. Хатуев, С.-Х. М. Нунуев и Р. А. Кадиев; реценз. И. Ю. Алироев, В. Х. Акаев, Х.-А. А. Берсанов. — М-во ЧР по внешним связям, нац. политике, печати и информ. — Гр. : ГУП «Кн. изд-во», 2008 (2001). — Вып. I. — С. 148—163. — 416 с. — (Библиотека нахской древности). — [работа 2001 г.]. — ISBN 978-5-98896-076-8.
- Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII — начале XIX века. (Очерки социально-экономического развития и общественно-политического устройства Чечни и Ингушетии в XVIII — начале XIX века) / Научн. ред. А. Д. Яндаров. — Академия наук Чеченской Республики. Чеченский государственный университет. НИИ гуманитарных наук Чеченской Республики. — Элиста: АПП «Джангар», 2002. — 528 с. — ISBN 5-94587-072-3..
- Ахмадов Я. З. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни в XVI—XVIII веках : моногр. / АН ЧР, КНИИ им. Х. И. Ибрагимова РАН, МОО «Ассоц. чеченских общественных и культурных об-ний». — Гр. : Благотв. фонд поддержки чеченской лит., 2009. — 422 с. — ISBN 978-5-91821-013-0.
- Бызов И. В. Аланы: кто они? : ст. // Чеченский архив (Сборник материалов по истории чеченского народа) : сб. / Сост. Ш. Ю. Саралиев, З. М.-С. Мусаев, И. З. Хатуев, С.-Х. М. Нунуев и Р. А. Кадиев; реценз. И. Ю. Алироев, В. Х. Акаев, Х.-А. А. Берсанов. — М-во ЧР по внешним связям, нац. политике, печати и информ. — Гр. : ГУП «Кн. изд-во», 2008 (2005). — Вып. I. — С. 187—191. — 416 с. — (Библиотека нахской древности). — [ст. в «Объединённой газете» № 3—4 (59—60) за 2005 г.]. — ISBN 978-5-98896-076-8.
- Вагапов Я. С. Вайнахи и сарматы. Нахский пласт в сарматской ономастике : ст. // Чеченский архив (Сборник материалов по истории чеченского народа) : сб. / Сост. Ш. Ю. Саралиев, З. М.-С. Мусаев, И. З. Хатуев, С.-Х. М. Нунуев и Р. А. Кадиев; реценз. И. Ю. Алироев, В. Х. Акаев, Х.-А. А. Берсанов. — М-во ЧР по внешним связям, нац. политике, печати и информ. — Гр. : ГУП «Кн. изд-во», 2008 (1990). — Вып. I. — С. 48—113. — 416 с. — (Библиотека нахской древности). — [изд-во «Книга», 1990 г.]. — ISBN 978-5-98896-076-8.
- Волкова Н. Г. Глава пятая. Вайнахи // Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа / Ответ. ред. Л. И. Лавров. — АН СССР. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1973. — 208 с. — 1600 экз.
- Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века / Ответ. ред. В. К. Гарданов. — АН СССР. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: «Наука», 1974. — 276 с. — 2300 экз.
- Генко А. Н. Из культурного прошлого ингушей // Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. — Л., 1930. — Т. V. — С. 681—761.
- Гюльденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770—1773 гг : [нем.] = Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebürge / von P. S. Pallas : полев. исслед / Пер. Т. К. Шафроновской, ред. и коммент. Ю. Ю. Карпов. — РАН. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунтскамера). — СПб. : «Петербургское востоковедение», 2002. — 512 [или 507?] с. — [1-е изд. на русск. яз. всех материалов И. А. Гюльденштедта последней трети XVIII в.]. — 1000 экз. — ISBN 5-85803-213-3.
- Древнетюркский словарь : слов. 20 000 сл. / Ред.-сост. В. М. Наделяев, Д. М. Насилов, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак, на IV с. авт.-сост.: Т. А. Боровкова, Л. В. Дмитриева, А. А. Зырин. — АН СССР. Институт языкознания. — Л. : «Наука», Ленингр. отделение, 1969. — XXXVIII, 677 с. — 6000 экз.
- Ингушско-русский словарь = Гӏалгӏай-Эрсий дошлорг : слов. 11 142 сл. (справ.-энцикл. изд-е) / Сост.: А. С. Куркиев, ред. колл. М. С. Мургустов, М. С. Ахриева, К. А. Гагиев, С. Х. Куркиева, З. Н. Султыгова. — ИГУ. — Магас : Изд. «Сердало», 2005. — 544 с. — 5000 экз. — ISBN 5-94452-054-X.
- Ингушско-русский словарь = Гӏалгӏай-эрсий дошлорг : слов.: 24 000 слов / Сост.: А. И. Бекова, У. Б. Дударов, Ф. М. Илиева, Л. Д. Мальсагова, Л. У. Тариева; науч. рук. Л. У. Тариева; реценз. Ф. Г. Оздоева, А. М. Мартазанов. — Ингуш. НИИ ГН им. Ч. Ахриева. — Нальчик : ГП КБР «РПК им. Рев. 1905 г.», 2009. — 983 с. — ISBN 978-5-88195-965-4.
- Киргизско-русский словарь. Кн. 1 (А—К) = Кыргызча-орусча сөздүк : слов. в 2-х кн., ок. 40 000 сл. / Сост. и предисл.: К. К. Юдахин. — Переизд. — Фрунзе (М.) : Гл. ред. КСЭ (печатается по изданию «СЭ»), 1985 (1965). — 504 с. — 30 000 экз.
- Коряков Ю. Б. Северокавказская семья // Атлас кавказских языков (с приложением полного реестра языков). — РАН. Институт языкознания. — М.: «Пилигрим», 2006. — 76 с. — ISBN 5-9900772-1-1.
- Мамакаев М. А. Чеченский тайп (род) и процесс его разложения : ст. // «Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы» : газета. — Гр., 1936. — (написана в 1934 г., отдельное изд. подготовленное в 1937 г. не увидело свет).
- Мамакаев М. А. Чеченский тайп (род) и процесс его разложения : научн.-исслед. раб. / Ред. Ф. М. Колесников. — [1-е изд. работы 1934 г.] — Гр. : Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1962. — 47 с. — 1500 экз.
- Мамакаев М. А. Чеченский тайп (род) в период его разложения : научн.-исслед. раб. / Ред. Х. М. Джабраилов. — [Переизд. работы 1934 г., пересмотр. версия]. — Гр. : Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1973. — 100 с. — 10 000 экз.
- Русско-кумыкский словарь = Русча-къумукъча сёзлюк : слов. ок. 30 000 сл. / Под ред.: З. З. Бамматова. — Дагест. филиал АН СССР. Институт истории, языка и литературы. — М. : ГИИНС, 1960. — 6-1148, [10] с. — 6000 экз.
- Русско-персидский словарь : слов. ок. 30 000 сл. / Сост.: Г. А. Восканян, реценз.: В. Б. Иванов, С. Д. Клевцова, А. М. Шойтов. — М. : «АСТ», «Восток-Запад», 2008 (1986). — 5-865, [6] с. — ISBN 978-5-17-050326-1 («АСТ»), 978-5-478-01066-9 («Восток-Запад»).
- Саратов И. Е. Следы наших предков : ст. // Памятники Отечества : иллюстр. альманах / Гл. ред. С. Н. Разгонов. — ВООПИиК. — М. : «Русская книга», 1985. — № 2 (12). — 167 с. — [изд. с 1980 г.].
- Сулейманов А. С. IV часть : топоним. слов // Топонимия Чечено-Ингушетии : в IV частях (1976—1985 гг.) / Рецензент Я. У. Эсхаджиев, ред. И. А. Ирисханов. — Гр. : Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1985. — 224 с. — 5000 экз.
- Сулейманов А. С. Топонимия Чечни : топоним. слов. — [1-е переизд. работы 1976—1985 гг., изменённое и дополн.] — Нальчик : «Эль-Фа», 1997. — 685 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88195-263-4.
- Сулейманов А. С. Топонимия Чечни : топонимич. слов / Ред. Т. И. Бураева. — [2-е переизд. работы 1976—1985 гг., изменённое и дополн.] — Гр. : ГУП «Книжное издательство», 2006. — 712 с. — 5000 экз. — ISBN 5-98896-002-2.
- Туманов К. М. О доисторическом языке Закавказья. — (Из материалов по истории и языкознанию Кавказа). — Тифлис : изд. авт., 1913. — 117 с.
- Шнирельман В. А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке : моногр. / Ред. серии И. Калинин. — ИЭА РАН. — М. : Новое лит. обозрение (Чебоксары, «Чебоксарская тип. № 1»), 2006. — 696 с. : ил., карты. — (Культурология. История. Политология). — Библиотека жур. «Неприкосновенный запас». — 1500 экз. — ISBN 5-86793-406-3.
- Юсупов М. М. Бюллетень «Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов» (EAWARN). — ИАЭ РАН, 1999. — № 26. — С. 60—61.
- Этимологический словарь чеченского языка : этимол. слов. / Сост. А. Д. Вагапов, науч. ред. М. Р. Овхадов, реценз. И. Ю. Алироев, Х. Б. Навразова. — ЧГУ. — Тбилиси : «Меридиани», 2011. — 734 с. — Изд. при фин. поддержке «Фонда Кавказа» (Грузия). — ISBN 978-9941-10-439-8.
- Пресса
- Коригов Х., Мержоев С., Белхороев М. В. Последнее слово — за нами : ст., рубрика «Резонанс» // Комсомольское племя : газ. / орган Чечено-Ингушского Рескома ВЛКСМ. — Гр., 01.11.1990. — № 44 (5555). — (издавалась в 1957—96, с 1991 под назв. «Республика», с 2003 преемницей считается газ. «Молодежная смена»).
- Призывы к субботнику на переданных Чечне землях вызвали споры в соцсетях : ст. // «Кавказский Узел» : интернет-СМИ / учред. ООО «МЕМО» (с 2008), гл. ред. Г. С. Шведов. — свид. Эл № ФС 77-31048 от 25.01.2008, выдано Роскомнадзором. — М., 16.11.2018. — (учрежд. Междунар. обществом «Мемориал» в 2001).
- Учёные и диаспора объяснили действия Кадырова по определению границы с Ингушетией : ст. // «Кавказский Узел» : интернет-СМИ / учред. ООО «МЕМО» (с 2008), гл. ред. Г. С. Шведов. — свид. Эл № ФС 77-31048 от 25.01.2008, выдано Роскомнадзором. — М., 15.10.2018. — (учрежд. Междунар. обществом «Мемориал» в 2001).
- Хожаев Д. А. Кто такие чеченцы? : ст., рубрика «История: факты, события» // Комсомольское племя : газ. / орган Чечено-Ингушского Рескома ВЛКСМ. — Гр., 04.10.1990. — № 40 (5551). — (издавалась в 1957—96, с 1991 под назв. «Республика», с 2003 преемницей считается газ. «Молодежная смена»).
- Ахриев Н. Одна судьба — одна история // Голос Чечено-Ингушетии : газета. — Грозный, 19.02.1992. — С. 2.
- Броневский С. М. Кисты (глава третья) // Новейшие географические и исторические известия о Кавказе (часть вторая) = Новѣйшія географическія и историческія извѣстія о Кавказѣ : моногр. — М. : В тип. С. Селивановского, 1823. — С. 151—186.
- Гильденштедт И. А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа из Путешествия г-на академика И. А. Гильденштедта чрез Россию и по Кавказским горам, в 1770, 71, 72 и 73 годах. — СПб.: Императорская Академия наук, 1809.
- Ильясов Л. М. Тени вечности. Чеченцы: архитектура, история, духов. традиции. — М.: Пантори, 2004. — 384 с. — ISBN 5-9218-0013-9.
- Ахмадов Я. 3., Ахмадов Ш. Б., Багаев М. X., Хизриев X. А. История Чечено-Ингушетии (дореволюционный период)//Учебное пособие. — Грозный, 1991.
- Натаев С. А. К вопросу об институте «Тухум/тохум/тукъум/тукхам» у народов Кавказа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки : журнал. — 2015. — С. 265—269.
- Сулейманов А. С. II часть: Горная Ингушетия (юго-западная часть), Горная Чечня (центральная и юго-восточная части) // Топонимия Чечено-Ингушетии: в IV частях (1976-1985 гг.) / Ред. А. Х. Шайхиев. — Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1978. — 289 с. — 5000 экз.
- Топонимия Чечни : топоним. слов. / Сост. А. С. Сулейманов. — [1-е переизд. работы 1976—1985 гг., изменён. и дополн.] — Нальчик : «Эль-Фа», 1997. — 685 с. — (кн. удостоена Гос. премии ЧРИ). — 1000 экз. — ISBN 5-88195-263-4.
.jpg.webp)
