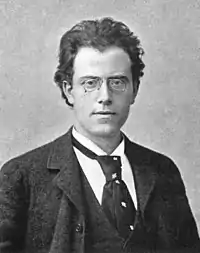Симфония № 10 (Малер)
Симфония № 10 — сочинение австрийского композитора Густава Малера, начатое летом 1910 года и оставшееся незавершённым. В дальнейшем не раз предпринимались попытки реконструировать симфонию по сохранившимся эскизам — попытки, вызвавшие неоднозначную реакцию как у музыковедов, так и у дирижёров.
| Симфония № 10 | |
|---|---|
| Композитор | Густав Малер |
| Тональность | фа-диез мажор |
| Форма | симфония |
| Время и место сочинения | 1910, Альтшульдербах |
| Первое исполнение | 12 октября 1924, Вена |
| Первая публикация | 1924, Вена |
| Место хранения автографа | Международное общество Густава Малера |
| Части | в пяти частях |
История создания
Как в венский период, так и в нью-йоркский для собственных сочинений у Малера оставались только несколько месяцев летнего отдыха, и работу над своей Десятой симфонией он начал в Альтшульдербахе 5 июля 1910 года[1]. В то лето многое отвлекало его от работы: он был занят подготовкой первого исполнения Восьмой симфонии, с её беспрецедентным составом, предполагавшим, помимо большого оркестра и восьми солистов, участие трёх хоров[2]; в июле разразился семейный кризис, надолго выбивший Малера из колеи, — о его тяжёлых переживаниях свидетельствуют надписи, точнее, полубессвязные слова на рукописи симфонии[3][4]. 25 августа работу пришлось прервать и вернуться к своей последней симфонии композитор, тяжело заболевший в феврале и умерший 18 мая 1911 года, уже не смог[1][5].
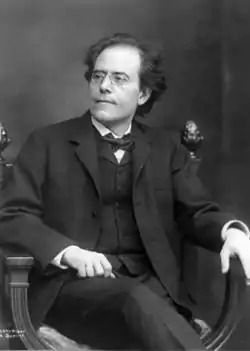
Симфония была задумана как сочинение в 5 частях, сохранился её план:
- 1. Adagio. Andante
- 2. Scherzo. Schnelle Vierteln
- 3. Purgatorio oder Inferno. Allegretto moderato
- 4. [Scherzo. Allegro pesante. Nicht zu schnell]. «Der Teufel tanzt es mit mir»
- 5. Finale. Einleitung. [Langsam, schwer][1]
Даже этот план, пишет Инна Барсова, в рукописях Малера несёт на себе следы становления: порядок частей в нём менялся, три части цикла — вторая, четвёртая и пятая — поочередно оказывались финалом[6].
В рукописи наиболее законченный вид имеет первая часть (Adagio): она записана в виде черновой партитуры с транспонирующими инструментами (переписывание партитуры набело, как и окончательную доработку своих сочинений, Малер всегда оставлял на зимние месяцы[7])[8]. Вторая часть — партитурный набросок более ранней стадии, многое здесь только намечено и предполагало дальнейшее развитие[9]. В третьей части (Purgatorio ) из 170 тактов в виде партитуры записаны только первые 30, остальные Малер успел набросать лишь в четырёхстрочном клавире с указанием инструментов[9]. Последние две части остались на стадии четырёхстрочного клавира с несистематическими указаниями инструментов и тем более не претендуют на окончательность: гармония на многих страницах записана схематически, по сравнению с Adagio в этой части рукописи резко снижается степень полифонической насыщенности — в ряде случаев Малер фиксировал только основные линии развертывания музыкальной мысли[9][10]. Как отмечал Дональд Митчелл, сравнительно малая степень полифонической сложности в некоторых частях симфонии для Малера «неправдоподобна» и также свидетельствует о незавершённости работы[11].
Музыка
Адажио
Говорить как о сочинении Малера можно только об Адажио: в рукописи это единственная часть, в которой оформление музыкальных мыслей композитора близко к окончательному[12][13]. Все три «прощальные» симфонии Малера непосредственно связаны между собой: Девятая симфония начиналась в буквальном смысле на той же ноте, на которой заканчивалась «Песнь о земле»; медленно истаивающая мелодия альтов, завершающая финал Девятой находит своё продолжение в одноголосной теме альтов в начале Адажио Десятой симфонии и словно обретает второе дыхание[14].
Медитативного характера мелодия альтов, создающая впечатление свободной импровизации, становится интонационным источником обеих тем экспозиции: торжественной хоральной и грустно-иронической[12]. В самом изложении хоральной темы уже заключена тенденция к её разрушению. «Кажется, — пишет И. Барсова, — что молитвенно повторяемое всю жизнь хвалебное песнопение вечно прекрасному вдруг, теряя внутреннюю опору, прерывается скептическим смехом теряющего силы, близкого к смерти человека, который знает, как иллюзорна вечность всего чувственного»[15].
Хоральная тема, напоминающая драматическую тему финала Шестой симфонии, постепенно раскаляется, но в момент готовящейся кульминации происходит перелом: очертания хорального мотива начинает размывать некая тихая песенка с признаками серенады, похожая на «мурлыканье» про себя[15]. В репризе эта ироническая серенада проникает в главную тему и, разрастаясь, постепенно оттесняет её, сама при этом трансформируясь в мажор[16].
В средней части Адажио темы экспозиции вступают в диалог с новыми темами, олицетворяющими, по-видимому, горний мир: камерная трактовка оркестра и предельная детализация фактуры, в которой Малер, по Й. М. Фишеру, нащупывает собственный путь к атональности, создают ощущение ирреальности[17][18]. В Адажио две кульминации: одна из них вызывает ассоциацию с церковным отпеванием, но это скорее ещё только memento mori; вторая — пронзительный звук (его поочерёдно берут скрипки, флейта с гобоем и труба), как будто отменяющий всё, что было до него[16].
Замысел
Насколько позволяют судить сохранившиеся эскизы, дальше композитор намеревался следовать по пути, проложенному Данте в «Божественной комедии»[16]. Трудно судить о том, какое место в концепции симфонии должно было занять монументальное эпико-драматическое скерцо; третья часть, итал. Purgatorio («Чистилище»), — короткая юмореска, которой придаёт загадочность дистанция, взятая композитором по отношению к музыкальному материалу[16]. За Purgatorio следует ещё одно скерцо — мрачное, демоническое, с авторской ремаркой нем. Der Teufel tanzt es mit mir («Чёрт танцует со мной»); финал, насыщенный музыкальными событиями, у многих вызывает ассоциации с Элизиумом: тема флейты в начале рождается словно из глубин падения[16][19].
Как отмечал Т. Адорно, в Десятой симфонии обнаруживаются все приметы позднего малеровского стиля, и в то же время в первой части она далеко уводит от последних сочинений композитора — «Песни о земле» и Девятой симфонии[19]. В стилистическом плане, если воспринимать Десятую как завершённое сочинение, в ней можно обнаружить два расходящихся пути, из которых один непосредственно подводит к той грани, с которой начинается «Новая музыка», и в частности поиски Новой венской школы (многие исследователи, в том числе А.-Л. де Ла Гранж, считают, что именно Адажио из Десятой симфонии открывает новую эпоху в истории музыки), другой, наоборот, возвращается к бесхитростной простоте «Волшебного рога мальчика», то есть к шубертовской традиции[19][5].
Дальнейшая судьба
По некоторым свидетельствам, в том числе Бруно Вальтера, Малер перед смертью просил уничтожить эскизы симфонии, что исследователи считают более чем вероятным: при жизни композитор даже близким друзьям никогда не показывал незаконченные сочинения, публикация же этой рукописи была равносильна обнародованию интимного дневника[5][4]. Альма не исполнила желание супруга и в 1924 году позволила венскому издателю Паулю Жолнаи опубликовать факсимиле рукописи[5].
12 октября того же года Франц Шальк исполнил в Вене 1-ю и 3-ю части симфонии — в оркестровой редакции, которую приписывали Эрнсту Кшенеку и от которой сам Кшенек отказался[1][4]. Английский исследователь Дерик Кук считал, что эта редакция, с многочисленными отступлениями от авторского текста, принадлежала самому Шальку[4]. В дальнейшем дирижёры, исполнявшие фрагменты симфонии — Виллем Менгельберг, Александр фон Цемлинский, Отто Клемперер, Герман Абендрот и Фриц Малер, — каждый по-своему обрабатывали редакцию Шалька[1]. В 1964 году Международное Малеровское общество восстановило, под руководством Эрвина Раца, и опубликовало оригинальную версию первой части симфонии — Адажио[1][20].
В своё время Альма обращалась к Арнольду Шёнбергу, а позже и к Дмитрию Шостаковичу с предложением реконструировать по сохранившимся фрагментам всю симфонию; оба композитора отказались[21]. Но такие попытки в разное время предпринимались энтузиастами, и наиболее успешная реконструкция, принадлежащая Д. Куку, вызвала далеко не однозначную реакцию[1][21]. Одни расценили его работу как подвиг музыковедения, другие сочли её по меньшей мере неубедительной[22][23]. «…Даже мысль об окончании чужой рукой, — писал Эрвин Рац, — абсолютно недопустима для нас. Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, Антон Веберн и Эрнст Кшенек прекрасно знали эти наброски и всю свою жизнь даже не допускали такой мысли; только Малеру было понятно то, что начертано на этих страницах, и даже гений не сможет разгадать, как должен был выглядеть окончательный вариант»[24]. С Рацем солидаризировался и Теодор Адорно:
Даже первую часть следовало бы почтить скорее чтением про себя, нежели публичными исполнениями, в которых незавершённое по необходимости становится несовершенным. Во всяком случае, тот, кто умеет в музыке различать возможное и осуществлённое, кто знает, что даже величайшие творения могли бы стать чем-то иным, большим, нежели то, чем они стали, — тот будет погружаться в исписанные почерком Малера страницы, движимый решимостью, но вместе и страхом, с тем благоговением, которое подобает возможному больше, чем осуществлённому[25][26].
Аргументов противникам реконструкции добавило опубликованное Международным Малеровским обществом факсимиле партитурных набросков второй части Девятой симфонии, показавшее, что у Малера даже в момент окончательного оформления возможны были существенные перестановки материала, изменявшие первоначальный план части[6]. Точно так же и сравнение клавира и партитуры первой части Десятой симфонии показывает, что существенные изменения, касающиеся тонального плана, расширения или сжатия формы, внутренней перестановки материала, Малер мог вносить и на стадии партитурного оформления музыки — между тем добрую половину симфонии он не успел довести до партитуры[27].
Правда, и сам Д. Кук говорил: «Никакое восстановление… не может быть названо „Симфония № 10“, но только „концертная обработка набросков 10 симфонии“»[28]. Но эта оговорка, пишет И. Барсова, сплошь и рядом не принимается к сведению ни критиками, восхваляющими реконструкцию, ни дирижёрами, исполняющими её[29][30]. Ничего незаконного, считает Й. М. Фишер, в исполнении реконструкции Кука, конечно, нет — просто слушатели сами вводят себя в заблуждение, принимая её за Десятую симфонию Малера[26].
Дирижёры к попыткам реконструкции симфонии всегда относились по-разному: одни, в том числе Юджин Орманди, Курт Зандерлинг и Саймон Рэттл, приняли версию Кука; до начала 60-х годов некоторые дирижёры исполняли и записывали 1-ю и 3-ю части в так называемой редакции Кшенека; большинство же исполняло и продолжает исполнять только Адажио[31]. Первая запись симфонии — именно и только Адажио — принадлежит Герману Шерхену и датируется 1952 годом[31]. Принципиально только Адажио записывали, в частности, такие признанные малеровские дирижёры, как Леонард Бернстайн, Рафаэль Кубелик и Бернард Хайтинк (ученики Малера, Бруно Вальтер и Отто Клемперер, вообще не оставили записей этого сочинения)[31]. В СССР Десятую симфонию, и тоже только Адажио, впервые записал Геннадий Рождественский в 1963 году; в советскую эпоху эта запись оставалась единственной[31].
В театре
В 1980 году хореограф Джон Ноймайер поставил балет Lieb' und Leid und Welt und Traum («Любовь и печаль и мир и мечта») на музыку Первой и Десятой симфоний Густава Малера («Балет XX века», Брюссель).
Примечания
- Michalek Andreas. Werke. Gustav Mahler. Internationale Gustav Mahler Gesellschaft. Дата обращения: 26 июля 2015.
- Fischer, 2011, с. 520, 630—632, 662—664.
- Fischer, 2011, с. 634—638.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 358.
- La Grange III, 1984.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 360.
- Danuser, 1987, с. 685.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 364, 366.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 364.
- Барсова. Густав Малер, 1968, с. 85.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 364—365.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 367.
- Fischer, 2011, с. 663.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 329, 367.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 368.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 369.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 367, 369.
- Fischer, 2011, с. 664.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 370.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 359.
- Fischer, 2011, с. 662.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 358—359.
- Danuser, 1987, с. 686.
- Цит. по: Барсова. Симфонии, 1975, с. 359
- Цит. по: Барсова. Симфонии, 1975, с. 359—360
- Fischer, 2011, с. 665.
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 361—362.
- Цит. по: Барсова. Симфонии, 1975, с. 366
- Барсова. Симфонии, 1975, с. 366.
- Fischer, 2011, с. 662—663.
- vers disco Symphonie № 1. Une discographie de Gustav Mahler. Vincent Moure. Дата обращения: 27 ноября 2015.
Литература
- Барсова И. А. Густав Малер. Личность, мировоззрение, творчество // Густав Малер. Письма. Воспоминания. — М.: Музыка, 1968. — С. 9—88.
- Барсова И. А. Симфонии Густава Малера. — М.: Советский композитор, 1975. — 496 с.
- Кенигсберг А. К., Михеева Л. В. 111 симфоний. — СПб.: Культ-информ-пресс, 2000. — С. 451—454. — 669 с. — ISBN 5-8392-0174-X.
- Danuser H. Mahler, Gustav (нем.) // Neue Deutsche Biographie. — 1987. — Bd. 15. — S. 683—687.
- Fischer J. M. Gustav Mahler = Gustav Mahler: Der fremde Vertraute. — Yale University Press, 2011. — 766 p. — ISBN 978–0–300–13444–5.
- Henry-Louis de La Grange. Gustav Mahler. Volume 3: Le génie foudroyé (1907–1911). — Paris: Fayard, 1984. — 1 с. — ISBN 978-2-213-01468-5.